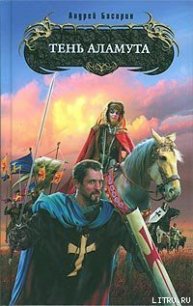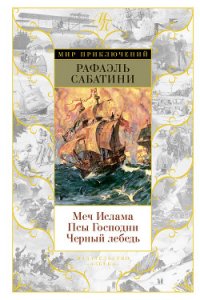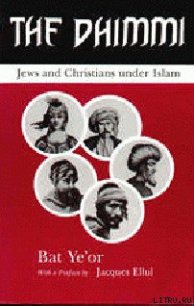Тень ислама - Эберхард Изабелла (читать полную версию книги .TXT) 📗
Нет, здесь дело не в почве, а в расе, и в этом заключается разгадка номадизма Изабеллы.
Теперь, что касается ее интеллектуальности, то откройте любую станицу ее книги и вы сразу убедитесь, что в ее точке зрения на каждую вещь чувствуется утонченный ум, а в изложении мысли большой талант. Многие из ее набросков оригинальны в хорошем смысле этого слова. Они новы, правдивы и удовлетворяют самому придирчивому вкусу.
„Я всегда была проста, — говорит Изабелла, — и в этой простоте я нашла большое утешение“. Нет ничего справедливее этих слов, если под простотою она понимает ясность и однородность. В противоположность известному русскому камню александриту, она все время сохраняет свой собственный блеск, при каком бы освещении вы ее ни рассматривали. В ней могут быть трещины, но эти трещины не чужого происхождения — горячо приветствуемое качество в наш век, производящий такое множество людей и книг, представляющих собою лишь простое отражение.
Ее мысль сформирована была тем единственно правильным путем, при котором только и может выработаться она во что-нибудь серьезное, т. е. большою начитанностью не для запоминания, а, по выражению одного английского мудреца — „to weigh and consider“ (взвесить и принять в соображение), и соприкосновением с хитрым и изворотливым миром живых людей и дикими местами природы. Глубоким и сильным вздохом втянула она в себя жизнь. Она выковала свою душу на медленном огне страданий, тоски и размышлений в одиночестве.
„Эти строки пишет обездоленнейшая из обездоленных в этом мире, изгнанница без очага и родины, сирота, лишенная всего, — и они искренни и правдивы“.
Или в другом месте:
„Я пришла к тому заключению, что никогда не следует искать счастья: оно идет по дороге, но всегда в обратную сторону…
Когда мое сердце страдало, оно начинало жить“.
Эта ощупь и душевная борьба сообщают языку Изабеллы Эбергардт особый привкус горечи и мягкого человеколюбия, представляющие собою противоположность с изготовленною машинным способом мишурою и противным фокусничеством, которыми щеголяют литераторы ее пола.
Нужно очень высоко ценить ее труд в те дни, когда, запершись в своей маленькой комнатке, она боролась с своими мыслями и словами, ибо только упорною борьбою научилась она обходить ту западню, куда так легко попадают писатели, в особенности ее расы — т. е. расплывчатость, неумение схватить мысль целиком. Русские скажут вам, что вид заборов, столь знакомый любителям наших пейзажей, слишком скучен и не сообразуется с их понятиями о свободе. Они должны иметь перед собою безграничный горизонт, потому что их дух бродит так же, как и их тело. Их сознательное многословие и постоянные „уклонения от сути“ составляют прелесть их разговорной речи и их литературный недостаток. Поминутно забираясь далеко в стороны, они хотят включить в свою работу все, что видят вокруг себя.
Так, один мой знакомый офицер, в течение шестнадцати лет работавший над историей русского управления Среднею Азией, сообщил мне, что наконец он достиг периода Кира. Надо думать, что при таких условиях Россия потеряла много писателей, погибших от надрыва или малодушно отступивших пред воображаемыми размерами их задачи. Слишком большой замысел парализует инициативу; все обнимающий ум является в то же время и тюрьмою для самого себя.
Этого стремления объять необъятное вовсе не чувствуется у Изабеллы. Она никогда не видит много вещей зараз и знает границы своей темы. Такая тренировка научила ее думать быстро и верно и отбрасывать все тривиальное. Выжимая из своих рассказов всю воду, она вечно неудовлетворена своими писаниями и верит больше в тщательность обработки, чем во вдохновение. Между тем — это писатель по природе, чувствующий неодолимое тяготение к литературной карьере.
„Я пишу потому, что меня увлекает процесс литературного творчества. Я пишу так же, как и люблю, ибо такова, вероятно, моя судьба. В этом мое единственное и истинное утешение“.
Но тот, кто захотел бы найти на страницах ее книги фотографическое воспроизведение жизни пустыни, будет разочарован висящим над ними миражом. Как все артисты, она улавливает цвета и формы, недоступные обыкновенному глазу. Ее картины „священной земли Африки“ являются искажениями почти в духе турнеровских ландшафтов; т. е. искажениями до тех пор, пока мы не подымемся на ее точку зрения и не научимся понимать лучше. Бесконечное молчание пустыни и вид развалин, по которым бродит глаз, безнадежно ища точку опоры, заставляют ее уходить в глубь самой себя и вызывают у нее, так же, как и у арабов, мечтательное настроение.
Кроме ее всесторонности, с одинаковою легкостью переносящей нас от одной фазы африканской жизни к другой, каждого внимательного читателя должно поразить ее чувство меры в отношении длины ее набросков. То, что на сцене жизни есть множество превосходных виньеток, которые лучше всего выглядят в микроскопической оправе сонета или даже эпиграммы; то, что преходящие душевные волнения лучше всего выражаются стихотворениями в прозе, наконец, то, что орографические, гидрографические и прочие описания континента требуют гигантского полотна Элизэ Реклю — понятно каждому. Однако, как часто нарушают это очевидное правило писатели даже с крупными именами! Изабелла счастливо избегает ошибок в этом направлении. Некоторые из ее рассказов, как например, „Женский мирок“, представляют собою настоящие миниатюры. Другие, как мрачный „Феллах“, где на всем протяжении вы слышите однообразный звук „нищеты, падающей капля по капле“, являются своего рода литературными барельефами. Но, длинные или короткие — все они читаются удивительно легко благодаря чудной технике, представляющей собою наглядную иллюстрацию к словам Шеридана, сказанным одной даме: „Easy reading, Madam, is damned hard writing“ (легко читающееся, сударыня, создается каторжным трудом).
Мы далеки от того, чтобы сказать, что труды Изабеллы Эбергардт составляют „последнее слово“ подобной литературы, ибо все то, что удовлетворяет нашему вкусу сегодня, — завтра оказывается уже менее интересным. По крайней мере, так было с любовью к пустыне. Еще недавно считавшаяся чем-то вроде земного ада, Сахара, подобно Альпам, открыта была романистами. Затем явился Фромантэн, и образованное человечество ахнуло от его откровений — пустыня создала моду в искусстве! Но почти вслед за ним идет Лоти. Нелюбознательный, бесстрастный, став в позу спокойного зрителя, он своим замораживающим неоклассицизмом сразу же остановил нас на том пути, по которому вел нас пылкий Фромантэн.
Сейчас на смену Лоти выступила Изабелла Эбергардт, для которой пустыня представляет собою не род искусства, а образ жизни.
Она погрузилась в глубь этих песчаных пространств не по эстетическим побуждениям, а по тождественности темперамента. Единство расы, религии и языка есть могущественная связь. Особенность же русских, как народа, та же, что и арабов: она заключается в чувстве братства, в своего рода апостольском духе, коренящемся в патриархальном строе и крепко связывающем между собою все классы империи. Манера, с которой бедный человек пустыни обращается к великому шейху своего племени, напоминает собою любовное отношение простого мужика к своему Великому Батюшке, в хозяйстве Которого, что бы там ни говорили, он является родным членом. Изабелла, и как араб и как русская, полна глубокими братскими чувствами: „Все мы бедные черти, — говорит она, — а тот, кто отказывается понять нас, — беднее нас самих“. С удивительною легкостью открывает она лучшие качества, прячущиеся в груди даже, по-видимому, потерявших уже свой человеческий образ существ. Вероятно, она нашла бы возможным сказать доброе слово даже дикарям Альбиона, опошляющим жизнь пустыни устройством дорог, несясь по которым в вышитых жемчугами платьях, надменные „мисс“ и „миссис“ будут описывать красоты пустыни для читателей разных „Review“.
В ее сочинениях нельзя не подметить некоторого сходства с Лоти. Подобно ему, она сумела, например, перевести на язык красок сухие и жесткие научно-коммерческие слова, и как эта чисто литературная речь, смело выступившая на арену совершенно чуждой ей мысли, приковывает к себе наши глаза! Она так же дополняет собою картину, как васильки ржаное поле.