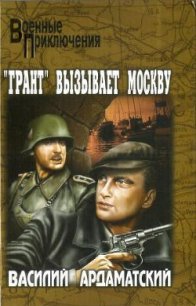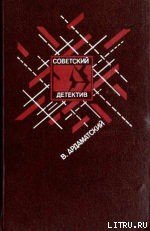Ленинградская зима - Ардаматский Василий Иванович (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Когда Чепцов произнес условную фразу, священник сразу же ответил, как условлено, и, повернувшись к образам, довольно долго молился.
— Надеюсь, что в молитвах своих вы не забыли и меня, — сказал Чепцов, когда они сели к столу, покрытому выцветшей и поцарапанной клеенкой.
Священник сидел, чуть наклонясь вперед и напряженно сцепив лежавшие на столе руки.
— Слушаю вас, — сказал он наконец с такой подчеркнутой вежливостью, что ее можно было принять за насмешку.
Чепцов знал, что священника зовут Анатолий Васильевич, но почему-то не мог обратиться к нему по имени.
— Господин Ромоданский, я пришел к вам с радостной вестью, — начал Чепцов несколько торжественно. — Мы начинаем наше святое дело, настало время, когда ваши обязательства перед нами должны превратиться…
— Минуточку, — поднял руку Ромоданский, — Чепцов увидел, что он волнуется. — Прежде я должен сказать… Я во всем подчиняюсь церковным властям. И от них есть повеление, чтобы православная церковь и ее служители в эту грозную пору были с паствой своей, со своим православным народом. Так что я быть вам полезен не могу. И не властен решить иначе.
Чепцов был так поражен услышанным, что не знал, как себя вести, что сказать.
— Но вы не тревожьтесь, пожалуйста, — продолжал священник. — Иудой я не стану, ничьи сребреники мне не нужны. Я служу богу, и это для меня высший закон. — Он поднялся.
— Вы можете пожалеть, господин Ромоданский, но будет уже поздно, — сказал Чепцов, вставая. — Ваше церковное начальство и тем более бог — высоко, а мы — рядом.
— Угроз не страшусь. Все во власти божьей! — торжественно ответил священник.
— Я хотел сказать только, что патриархи тоже невечны. Не говоря уже об их повелениях.
— Моя обязанность эти повеления исполнять, а не отменять, — спокойно возразил священник. — Прощайте.
Как было условлено заранее, Чепцов и Кумлев шли по разным сторонам улицы. У Дворцового моста они сели в трамвай, Кумлев в моторный, а Чепцов — в прицепной вагон.
Пройдя на переднюю площадку, Кумлев взглянул через стекло и вздрогнул — ему почудилось, что вагоновожатая была та самая, которую три дня назад убило, когда он ехал на Охтинское кладбище. Он посмотрел внимательно — нет, эта была постарше, и лицо все в морщинах.
— Обстрела нет? — спросил у нее Кумлев.
— А черт его душу знает, — ответила она, не поворачивая головы.
Чепцов сидел в заднем вагоне, и, держа на виду свою беспалую руку, ловил устремленные на него сочувственные взгляды и думал: как мало надо людям! Но подспудная тревога не проходила, и все эти люди в трамвае вызывали в нем ощущение опасности.
Сошли, как было условлено, на углу Садовой и Невского и дальше пошли вместе. «Сюда бы снаряд, в эту кашу, а не в пустой трамвай», — подумал Кумлев, проталкиваясь в толпе.
Чепцову сейчас было спокойно. Встреча со священником его не столько встревожила, сколько удивила. Ничего страшного — есть фотограф. Возле зеркала в витрине парикмахерской он остановился и удовлетворенно оглядел себя — и чужой, тесноватый ему костюм, и серый ежик пробившихся волос на голове, и темную полоску над верхней губой, где наметились усы. Еще несколько дней, и он сам себя не узнает, а в советской контрразведке тоже работают люди, но не волшебники.
Но те, кому было нужно, знали, что в их огромном городе находится подозрительный и, по-видимому, опасный человек. Они, понятно, не были волшебниками. Но они работали в это грозное время и не одним человеком занимались. На каждой «оперативке» Прокопенко, помянув исчезнувшего военторговца, неизменно добавлял: «Ну, ничего, город нам поможет…» Вот и сейчас город видел Чепцова, проталкивавшегося вместе с Кумлевым через толпу на Невском. Видел!
Всю дорогу Чепцов и Кумлев шли молча, и, только когда вошли в кумлевскую квартиру и хозяин запер дверь, Чепцов сказал:
— Ваш поп — сволочь и дезертир.
— А что? — без удивления спросил Кумлев.
Чепцов, стаскивая тесный пиджак, повернулся — лицо у резидента было каменно-непроницаемое.
— Он только что не выгнал меня!
— Я думал, что он вас все-таки испугается, — сказал Кумлев. — Был он не хуже других, давал информацию. В одном можно быть уверенными — он нас не продаст, а когда колокола зазвонят в честь нашей победы, он прибежит… — Оттого, что Кумлев говорил спокойно, его слова убеждали.
— И много у вас таких, которые придут к нам после нашей победы?
Кумлев молчал, поглаживая пальцами свой массивный подбородок. Потом сказал веско:
— Такие имеются. И это естественно, когда целая страна меняет свою шкуру. Кроме того, я живу здесь среди людей, а люди везде бывают разные… — Кумлев остановился, ему показалось, что Чепцов не слушает.
— Кто у нас завтра? — спросил Чепцов, садясь к столу.
— Завтра Горин. Адвокат. Этот может пригодиться всячески, хотя он из породы бесхребетных.
— Расскажите о нем подробнее, — попросил Чепцов.
Горин вырос в семье преуспевающего адвоката. Его отец прославился участием в крупных делах акционерных обществ и банков, он получал громадные гонорары. Ему принадлежала восьмикомнатная квартира с окнами на Театральную площадь, в богатом доме. Горины имели немало прислуги, собственный выезд, дачу в Сестрорецке…
Кумлев знал обо всем этом со слов самого Горина. Сейчас, пересказывая это Чепцову, он спрашивал себя снова: почему же Горин не сделался убежденным врагом большевиков?
— Дело в том, — рассказывал Кумлев, — что, имей он такую же жизнь при Советах, он бы кричал: «Да здравствуют Советы!»
— А как он живет сейчас?
— По сравнению с другими, я бы даже сказал — с большинством, он живет совсем неплохо. Работает в нескольких местах. Получает прилично. Деньги тратит на карты и женщин.
— Значит, ему нужны деньги — это хорошо.
— Ему надо значительно больше, чем мы даем, — продолжал Кумлев.
— Пообещаем…
— Он хочет сейчас.
Кумлев аттестовал Горина довольно точно, он только забывал, что роскошной жизни молодой адвокат успел хлебнуть и в советское время.
Получив в двадцать девятом году диплом юриста, Михаил Горин вскоре понял, что диплом стоит недорого. Но он знал, что отец всю жизнь скупал золото и драгоценности, и нетерпеливо ждал, когда все это достанется ему.
В тридцать шестом году шкатулка с ценностями поступила в его распоряжение, и он очертя голову ринулся в разгульную жизнь, собрав вокруг себя компанию таких же, как он, циников и любителей сладкой жизни.
Но однажды показалось дно шкатулки. Он точно проснулся — жизнь потеряла для него всякий интерес, не было никаких перспектив, впереди безденежье. Отец всегда говорил: «Судьба, как правило, недодает человеку». Горин считал, что его судьба попросту ограбила.
Кумлев был уверен, что он стал немецким агентом в расчете на большие деньги, и пропускал мимо ушей горинские рассуждения, что он мстит судьбе. Но все для него проходило легко, даже от войны его спасло плоскостопие.
Над городом шел ночной воздушный бой. Мы стояли во дворе военной комендатуры. Среди нас был летчик, который объяснял, что происходит в небе. Приходилось верить ему на слово, так как на самом деле мы видели только нервно бегавшие по небу лучи прожекторов, и иногда в них начинали сверкать и быстро гасли серебристые фигурки самолетов.
И вдруг в одном луче засверкали два самолета. Они сближались. Казалось, слились в одну точку и тут же исчезли. Луч качнулся вниз, в нем сверкала фигурка беспорядочно падавшего самолета.
— Сбил! Сбил! — закричали вокруг.
Кто кого сбил, было непонятно. Вскоре позвонили в комендатуру, что на территории одного завода опустился парашютист, который называет себя нашим военным летчиком Севастьяновым. Туда помчалась машина комендатуры.
Я знал одного летчика-истребителя Севастьянова. За несколько дней до этого я был на партсобрании в истребительном полку, где Севастьянова принимали в партию. Очень это было волнующе и здорово. Сначала приняли в партию летчика Горышина, за час до собрания погибшего в бою. Когда председатель спросил, кто «за», все молча встали и постояли молча. Потом сели. И председатель сказал: «Принять единогласно, будем считать, что Ваня Горышин погиб коммунистом». Потом принимали Севастьянова. Очевидно, сильно взволнованный предыдущим, он заговорил несколько высокопарно, и получилось у него так, будто он один готов, защищая город Ленина, отдать за него свою жизнь. Но искренность, с какой он это говорил, была сильней неправильно выбранных слов или неправильной интонации — его приняли единогласно…