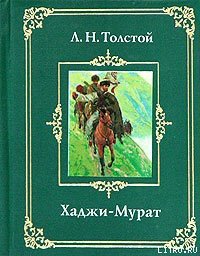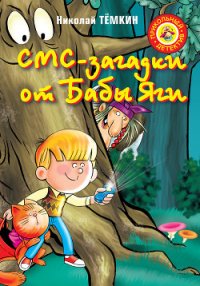Похождения Хаджи–Бабы из Исфагана - Мориер Джеймс Джастин (электронные книги бесплатно .txt) 📗
Мой хозяин, свернувшись в клубок, прилёг, лицом к земле, между двумя кипами товаров и в смертельном молчании ожидал решения своей участи. Один из туркменов, дикарь исполинского росту, отличавшийся своею свирепостью, открыл его в этом невинном убежище и, приняв, вероятно, за вьюк с постелью, одним ударом ноги повернул на спину. Осман-ага, полагая себя убитым, вдруг растянулся во весь рост, как опрокинутый червь, развивающий свои кольца, к немалому развеселению самого разбойника; потом, не меняя положения, он протянул к нему голову, руки и ноги и, с бледным лицом, неподвижными от ужаса глазами, с торчащею клином бородою и гадко разинутым ртом, стал умолять о пощаде самым отчаянным и негеройским образом. Он хотел тронуть его благочестие, произнося имя Омара [12] и проклиная Али; но хищник казался глухим на все убеждения, обобрал его дочиста, оставив на плуте только рубаху и чалму, из уважения к зелёному её цвету, и тут же, в его присутствии, надел на себя красные его шаровары и синюю ферязь. Моё платье не могло возбудить жадности, и потому я его сохранил вместе с единственным моим достоянием, парою исфаганских бритв.
Окончив грабёж каравана, хищники разделили между собою пленных, завязали нам глаза и посадили бедняжек на коней, позади всадников. Таким образом путешествовали мы целый день, пока не остановились ночевать в одном ущелье. На другой день, когда нам открыли глаза, мы увидели себя в глухой пустыне, известной одним лишь туркменам. Мы долго ехали гористыми местами; наконец спустились на обширную, зрением необъемлемую равнину, покрытую чёрными юртами и бесчисленными стадами наших похитителей.
Глава III
Аслан-султан. Пир в улусе. Искусство Хаджи-Бабы. Участь каука Осман-аги и зашитых в нём червонцев
Мой хозяин, Осман-ага, и я достались в удел тому же страшному туркмену, который взял нас в плен. Он назывался Аслан-султан и начальствовал над одним большим улусом. Юрты его были расположены на самом почти рубеже этой обширной равнины, в небольшом расстоянии от гор, от которых отделялись глубоким оврагом и речкою; кругом их расстилались зелёные пастбища. Наши товарищи, доставшиеся другим туркменам, увезены были внутрь степи и рассеяны по разным кочевьям.
Въезжая в улус, мы были встречены радостными восклицаниями. Между тем как победители принимали поздравления друзей и родственников, нас, побеждённых, едва не растерзали собаки. Зелёная чалма моего хозяина доселе доставляла ему некоторое уважение; но бану гарема, то есть главная жена нашего султана, нашла её столь красивою, что немедленно велела отвязать кисею и отдать ей.
У Осман-аги оставался ещё синий, стегённый каук, с пятьюдесятью зашитыми в вате туманами; но и тот, по несчастью, понравился второй жене султана, которая придумала употребить его на подкладку под седло, иссаднившее спину её верблюда. Напрасно Осман-ага защищал всеми мерами этот последний остаток своего богатства: взамен каука дали ему баранью шапку, принадлежавшую одному несчастному, который, подобно нам, был у них пленником и недавно умер от нищеты и грусти.
Мой хозяин, как жирный и тяжёлый турок, неспособный к побегу, назначен был пасти верблюдов в горах. Вверяя ему «цепь» этих животных, состоявшую из пятидесяти голов, Аслан-султан объявил, что велит обрезать ему нос и уши, если он затеряет хоть одного; если же допустит умереть от болезни, то цена того верблюда будет прибавлена к выкупу за его особу. Меня, напротив того, оставили при юрте, но строго запретили отлучаться из улуса, а для препровождения времени определили работу – бить коровье масло, качая с одним мальчиком кожаный мешок, налитый сметаною.
Между тем наступил день пиршества, которое Аслан-султан давал своим товарищам, родственникам и подвластным в память блистательной победы, одержанной над нашим караваном. Огромный котёл с рисом и три жареные барана составляли всю подачу. Пища, оставшаяся от мужского стола, отнесена была в женскую юрту, а остатки от женщин были предоставлены пастухам, которые обгрызенные почти дочиста кости бросали попеременно нам и собакам. Томимый голодом со дня нашего разбития, я ловил на воздухе куски этой скудной трапезы, как вдруг одна из женщин подала мне знак рукою из-за юрты. Я поспешил туда и с неизъяснимою радостью нашёл на земле мису рисовой похлёбки с куском жирного бараньего хвоста. Женщина, принесшая её, успела только сказать мне вполголоса, что бану гарема, принимая во мне участие, присылает эту подачку, и скрылась в юрту, не дожидаясь изъявления моей благодарности.
Эта неожиданная милость оживила несколько мои надежды. Тогда как мужчины забавлялись трубкою и рассказами о своих приключениях, а женщины пением при звуках бубнов, я старался утешить прежнего моего хозяина и представлял ему, что, как добрый мусульманин, он должен приписать своё несчастие судьбе и уповать на аллаха.
– Бог милосерд! – говорил я.
– Хорошо тебе говорить: «Бог милосерд», не потеряв ничего, – возразил он, – но я, несчастный! Я разорился вконец. – II чтоб дать мне понятие о всей обширности своего несчастия, он стал исчислять до последней полушки свою потерю не только в капитале, но и в процентах, которые надеялся выручить из продажи мерлушек в Стамбуле.
На другой день он должен был отправиться в горы. Чтоб доказать ему в последний раз мою преданность, я посадил его на верблюжьем седле и, в виду целого улуса, выбрил ему голову. Ловкость, с которою я его отделывал, подала туркменам высокое обо мне понятие, и каждый из них вспомнил нечаянно, что и ему также пора брить себе голову. В скором времени слава моя распространилась по всему кочевью. Узнав о моих дарованиях, сам Аслан-султан велел мне немедленно доказать на его лбу истину рассказываемого подчинёнными. Я должен был работать на черепе, изрубленном в разных направлениях сабельными ударами до того, что поверхность могла б служить хорошим изображением той гористой пустыни, через которую туркмены везли нас в свои кочевья. У Аслан-султана доселе почиталось уже большим наслаждением, когда степной бородобрей больно скребал ему темя ножом, которым сдирают шкуру с баранов, и теперь, под моей рукою, чувствовал себя как будто бы в раю. Он осыпал меня похвалами и сказал, что я брею его не по коже, но по душе, расстоянием за два дня пути под кожей. В порыве своего восторга он поклялся, что не отпустит меня из степи ни за какой выкуп, и тотчас наименовал меня своим бородобреем.
Я, правда, был в неволе, но положение моё ежедневно становилось приятнее: я пользовался милостью султана и не отвергал расположения ко мне главной его жены. Сношения мои с бану ограничивались доселе нежными взглядами и некоторыми доказательствами учтивости с её стороны и благодарности с моей. Я слишком дорожил своими ушами и носом и оттого не старался проникнуть в её юрту; она не имела надобности в бородобрее и не находила предлога к ближайшему со мной знакомству. Но как туркмены не так уже чужды образованности, чтоб не знать, что бородобреи в Персии вместе и лекари, умеют пускать кровь, рвать зубы и править кости, то бану вдруг почувствовала нужду пустить себе кровь и прислала спросить меня, могу ли я оказать ей эту услугу. Я отвечал, что, если только мне дадут ланцет или перочинный ножик, я готов удовлетворить её желанию. Я имел предчувствие, что этот случай может обратиться в величайшую мою пользу.
Ножик был тотчас приискан, и один из старейшин поколения, который выдавал себя за звездочёта, объявил, что соединение планет, благоприятствующее кровопусканию, последует завтра поутру. Когда меня ввели в юрту, заключавшую в себе гарем султана, я увидел перед собою женщину неимоверной толстоты, настоящую красавицу в турецком вкусе, но отнюдь не привлекательную для меня, перса; она сидела на ковре, с поджатыми под себя ногами. Это была сама бану, которую я тогда увидел впервые в целом её объёме. Хотя с первого взгляда на жирный предмет моих мечтаний все нежные чувства, наполнявшие моё сердце и воображение, вдруг меня оставили, я восхищён был, однако ж, ласковым её со мною обращением и особенным вниманием её подруг, которые, смотря на меня как на существо высшего разряда, протягивали ко мне руки и просили щупать пульс. Окинув взглядом юрту, я нечаянно увидел в одном углу каук прежнего моего хозяина, о котором думал и сожалел неоднократно. Пятьдесят золотых туманов, скрывавшихся в его вате, вдруг представились моему воображению в полном своём сиянии, и я решился во что бы то ни стало овладеть ими, как единственным средством к открытию себе поприща в мире, если когда-нибудь удастся вырваться из рук этих дикарей.
12
Имя Омара. – Омар – первый «халиф праведного пути» у суннитов (туркмен, турок). Здесь его имя произносится, чтобы выдать себя за суннита.