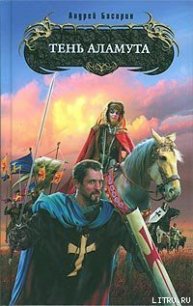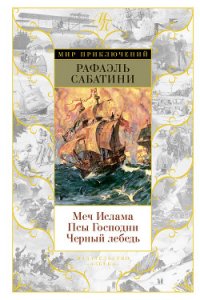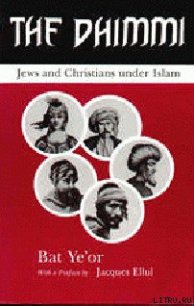Тень ислама - Эберхард Изабелла (читать полную версию книги .TXT) 📗
А старик продолжал идти прямо перед собою, ничего не видя и не узнавая во тьме окутавшей его мозг вековечной ночи. Машинально, во имя Аллаха, протягивал он руку, прося того хлеба, в котором отказала ему красная и каменистая земля его страны.
Тенес.
1902.
СЛЕЗЫ МИНДАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Бу-Саада, рыжая царица, одетая в свои темные сады и охраняемая своими фиолетовыми холмами, дремлет на обрывистом берегу уэда под шумный говор воды, бегущей по белым и розовым камням. Небрежно прислонясь к низким земляным стенам, плачут своими белыми слезами миндальные деревья, ласкаемые ветром, и их нежный запах парит в мягком воздухе, вызывая сладкую грусть…
Это весна. Под ее томною внешностью таится буйная жизнь, полная любви и огня. Могущественные соки подымаются из таинственных резервуаров земли.
Тишина южных городов царит над Бу-Саадою, и на ее улицах прохожие редки. Но на берегу уэда виднеются иногда вереницы женщин и девочек в ярких одеждах.
Млафы фиолетовые, изумрудные, розовые, лимонножелтые, гранатовые, небесно-голубые, красные или белые, вышитые цветами и звездами; головы, убранные тяжелыми сооружениями сахарской куафюры, составленной из тесемок, золотых и серебряных подхватов, цепочек, маленьких зеркалец и амулетов, или увенчанные диадемами из черных перьев… все это движется, переливается на солнце; группы то сходятся, то расходятся в постоянно меняющейся радуге, точно рои очаровательных бабочек… Порою из молчаливых, будто выкрашенных охрою улочек показываются толпы мужчин, одетых в белое, с белыми капюшонами и серьезными бронзовыми лицами.
Уже много лет перед небольшою мазанкою с утра до вечера сидят две старые женщины. Они одеваются в темнокрасную млафу, густая шерсть которой образует тяжелые складки вокруг их высохших, точно мумии, тел. По обычаю страны, головной убор их сделан из красных шерстяных тесемок и кос из седых волос, выкрашенных лавзонией в ярко-оранжевый цвет. В увядшие уши продеты тяжелые кольца, поддерживаемые серебряными цепочками, пристегнутыми к шелковым платкам куафюры. Ожерелья из золотых монет и твердых ароматических лепешек, большие пластинки чеканного серебра покрывают их опавшие груди; при каждом движении, редком и медленном, все эти украшения и браслеты на ногах и костлявых руках издают дребезжащий звук.
Неподвижные, как старые забытые идолы, они смотрят сквозь голубой дым своих папирос на проходящих мимо мужчин, которые не бросают уже на них своих взглядов, на всадников, на свадебные кортежи, на караваны верблюдов или мулов, на дряхлых стариков, бывших когда-то их любовниками, на все это движение жизни, не трогающее их более.
Их тусклые глаза, чрезмерно увеличенные кехолем, их нарумяненные, несмотря на морщины, щеки, их накрашенные губы бросают как бы зловещую тень на эти старые лица, исхудалые и лишенные зубов.
…Когда они были молодыми, — Саадия с тонким орлиным лицом бронзового оттенка и Хабиба, бледная и хрупкая, — они услаждали досуги бусаадийцев и кочевников.
Теперь же, богатые, украшенные добычею их молодой алчности, они спокойно созерцают блестящую декорацию большого города, где Тель встречается с Сахарою, где смешиваются между собою все расы Африки. И они улыбаются, жизни ли, которая идет своим ходом — неизменная и без них, — или же своим воспоминаниям… кто знает?
В часы, когда протяжный и жалобный голос муэддина сзывает правоверных, обе подруги встают и с громким звяканьем драгоценностей падают ниц на запачканную циновку. Затем они снова садятся на свои места и принимаются за свои мечты, как будто они ждут кого-то, кто не приходит.
Редко обмениваются они несколькими словами.
— Посмотри, о, Саада, вон там Си-Шалаль, кади… Помнишь ли ты время, когда он был моим любовником? Что за лихой наездник был он тогда! Как ловко вздымал он на дыбы свою вороную кобылу! И как был он щедр, несмотря на то, что состоял еще простым аделем! И вот он уже старик… Ему нужны двое слуг, чтобы посадить его на мула, столь же благоразумного, как он сам, и женщины не смеют больше смотреть ему в лицо… ему, глаза которого я пожирала своими поцелуями!
— Да… А Си-Али, лейтенант, который еще простым спаи прибыл с Си-Шалалем и которого я так любила? Он тоже был смелый кавалерист и красивый мальчик… Как плакала я, когда он уезжал в Медса! А он? Он смеялся. Он был счастлив. Его только что произвели в бригадиры… и он уже забыл меня… Мужчины все таковы… Он умер в прошлом году… Пошли ему Господь свое милосердие!
Иногда они поют любовные куплеты, которые странно звучат в их беззубых ртах с дрожащим, почти неслышным голосом. И они живут таким образом, беззаботные, среди призраков прошлого, ожидая, когда пробьет их час.
Багровое солнце медленно подымается за горами, подернутыми легким туманом. Первые лучи его навешивают огненные украшения на верхушки финиковых пальм, и глиняные купола часовен кажутся отлитыми из массивного золота. В один миг весь старый рыжий город вспыхивает, точно накаленный внутренним огнем, в то время как низы садов, русло уэда и узкие тропинки остаются в тени, будто наполненные голубым дымом, искажающим формы, смягчающим углы и подрисовывающим таинственные дали, открывающиеся между низкими стенками и стволами пальм… На берегу речки алый свет дня бросает розовый оттенок на застывшие в чистые снежинки слезы миндальных деревьев.
Перед жилищем двух старых подруг свежий ветерок разбрасывает остатки золы потухшего очага, шаловливо унося их небольшими вихорьками. Но Саадии и Хабибы нет на их обычных местах.
Внутри жилища слышен плач, то хриплый, то пронзительный. На циновке, как неподвижный сверток красной материи, лежит Хабиба. Саадия и ее подруги, бывшие куртизанки, плачут, царапая себе лицо ногтями, и мерное побрякивание драгоценностей сопровождает причитания плакальщиц.
Очень старая и совсем истощенная, Хабиба умерла в эту ночь тихо, без агонии, так как износившиеся пружины ее ломались постепенно.
Ее тело омыли в большой воде, завернули в надушенные белые одежды и положили лицом к Востоку. В полдень пришли мужчины и унесли Хабибу на одно из ничем не огороженных кладбищ, куда, на бесчисленные серые камни, песок пустыни свободно катит свою вечную волну.
С этого времени Саадия уже одна сидит перед своею хижиною. Вместе с голубым дымом никогда не покидаемой ею папиросы выдыхает она тот небольшой запас жизни, который еще остается в ней. А на берегу освещаемого солнцем уэда и в тени садов миндальные деревья продолжают плакать своими белыми слезами сладкой весенней грусти.
Бу-Саада.
3 февраля 1903 г.

МУЗЫКА СЛОВ
ЧЕРНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ
Вечер. Красный вечер тяжелых кровавых испарений над пустотой равнины. За ручьем, на границах пустыни, груда рыжих развалин, остатки стен, основания разбитых башен, разрушенный Черным Султаном зеккурский кзар, чьи обломки живут бесконечно, медленно выветриваясь на солнце и служа прибежищем ядовитым племенам скорпионов и гадюк.
Мы медленно проезжаем мимо всего этого запустения и вдруг другое видение возникло перед нами, и странное чувство потрясло меня.
На краю дороги, разметавшись, страдала черная масса. При нашем проезде этот остов приподнялся в судорожном усилии: то была лошадь, ее задние ноги были перебиты, она боролась здесь со смертью, одна, в этот умирающий вечер.
Черный жеребец уперся на выброшенные вперед нервные ноги; грудь его дрожала и он вытягивал окровавленные ноздри к нашим кобылицам.
Его большой, уже потускневший глаз внезапно зажегся, и он протяжно заржал, — последний нежный зов к трепещущим самкам, словно крик мятежа и боли.
Джилали отцепил ружье, прицелился в умирающее животное, раздался выстрел, сухой и резкий: черный жеребец покатился, сраженный, на красную землю, с помутившимся взглядом, с последним криком любви.