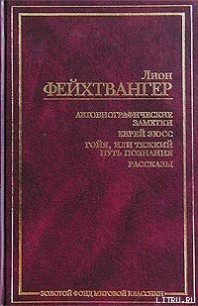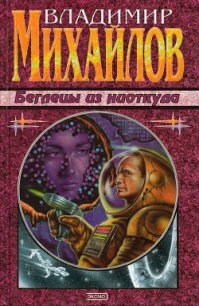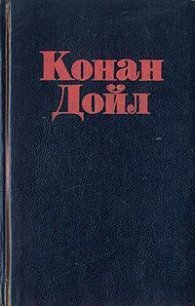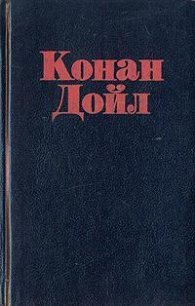Один на дороге - Михайлов Владимир Дмитриевич (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Да, подумал я, усмехаясь силе своего воображения, специфика у нас действительно не та, и еще не скоро можно будет принимать военные делегации на уровне полной откровенности. Военная наука, безусловно – наука, но на ее достижениях с самого начала стоит гриф «Совершенно секретно». Сознание этого вошло в нашу плоть и кровь, и проявляется хотя бы в том, что женщина, с которой я был знаком около суток, так и не узнала, что человек, уведший ее с гарнизонного кладбища – профессиональный военный…
Был знаком; этот оборот мысли мне не понравился – словно, исполняя мелодию, музыкант нечаянно задел другую струну, и впечатление сразу поблекло. Но тут вошел, наконец, наш гость, и думать о пустяках стало некогда.
Был он крупным, лет пятидесяти, старался держаться свободно, но не сразу справился со скованностью, и ощущение неудобства некоторое время не исчезало ни у него, ни у нас – неудобства, в котором не были виноваты ни он, ни мы, а разве что память – память и война. По-русски он, естественно, не говорил, но это нас как раз не смущало: Лидумс немецким владел в совершенстве с детства; а я достаточно хорошо понимал,.хотя свободно разговаривать не мог из-за хронического отсутствия практики. Так что в разговоре Лидумс солировал, а на мою долю оставался, в лучшем случае, аккомпанемент. Но на большее я и не претендовал.
– Итак, – начал Лид уме, когда мы представились (гостя звали Хуго Фабльберг) и выяснили окончательно и бесповоротно, что наш гость согласен оказать нам всяческую помощь в пределах его возможностей, а мы, сознавая ограниченность этих его возможностей, не будем на него в претензии, если он не сможет чего-то из того, что мы от него ожидаем, – после всей этой дипломатической протокольной преамбулы и после исполненных живого интереса вопросов о погоде в Магдебурге и исчерпывающих ответов по этому поводу, – итак, – начал Лидумс главную часть нашего разговора, – вы жили тут до войны.
– Я тут родился в двадцать седьмом году, – ответил Фабльберг, – и жил до сорок четвертого года («до года девятнадцать сотен четыре и сорок», так звучало это в оригинале), когда был призван в армию, так как тогда шла война.
– Да, – согласился Лидумс, – война шла, совершенно верно. Не можете ли вы сказать, где вы тут жили? Особенно в последние годы?
– Я знаю, что вас интересует, – сказал Фабльберг, – так как товарищи, которые беседовали со мной и попросили меня предпринять эту поездку, ввели меня в курс дела – в той, разумеется, степени, в какой они сами в эту суть посвящены. Жил я постоянно от рождения в одном и том же доме.
– Лучше будет, если вы покажете на плане, – сказал Лидумс и извлек из стола тот самый, наклеенный на холстину, старый план. Он расстелил план на столе, Фабльберг коротко вздохнул и на секунду запнулся; мы промолчали. Тогда он сказал:
– Да, вот так… А жил я тут.
– Нас интересуют вот эти дома.
– Я знаю. Как видите, это достаточно далеко. Сам я в этих домах никогда не бывал. Но я знал человека, который там работал.
Если бы беседу вел я, то наверняка, не удержавшись, крикнул бы: «Кто он? Чем он там занимался? Да не тяните!..» У Лидумса выдержки было больше, и он сказал лишь:
– Это очень интересно. Продолжайте, – и подпер ладонью подбородок, показывая, что приготовился внимательно и долго слушать.
– Собственно, это будет очень небольшой рассказ. Какие-либо подробности об этом человеке мне неизвестны, хотя сам я ему очень многим обязан. Своей профессией. – Он посмотрел на свои руки, здоровенные ладони с сильными пальцами, с шершавой кожей, – Я впервые подумал о ней всерьез, когда познакомился с ним. И, наверное, тут большую роль сыграло даже не то, что он рассказывал о своей профессии, – не так уж много, – а как он рассказывал, иными словами – как он любил свою профессию. Тогда я был слишком молод, я был мальчиком и много не понимал. Зато теперь, вспоминая, я вижу, что он очень любил свое дело.
– У вас всегда было много хороших химиков, – кивнул Лидумс. Фабльберг озабоченно взглянул на него.
– Но он был врачом, а вовсе не химиком. Именно врачом. И я ведь тоже не химик, а врач. – Он тревожно приподнялся. – Если вы рассчитывали на меня, как на химика, то я разочарую вас…
– Нет, – сказал Лидумс, – все в порядке.. Просто я подумал, что он – химик. А оказывается, он был врачом.
– Вы совершенно правы. Только я стал хирургом, а он не был хирургом. Он был терапевтом, однако, как он сам говорил, усмехаясь, терапевтом он был плохим, потому что в свою науку почти не верил. Это он сам говорил так. Он говорил, что если врач не верит в свои средства, то он плохой врач. И еще он говорил, что увидеть свою науку лучше всего можно не изнутри, а со стороны, то есть достаточно отдалившись от нее. И он говорил, что теперь видит свою науку достаточно хорошо, чтобы понимать, насколько она еще не есть наука, насколько она еще несовершенна.
– Значит, он не практиковал, – уточнил Лидумс.
– Да, конечно нет. Иногда, если кто-нибудь внезапно заболевал поблизости, из тех, кто его знал и кого он знал, он приходил и лечил, но делал это без всякого удовольствия.
– А вы говорили, что он был увлечен своим делом.
– Да, так это и было. Но он любил свое дело, мне кажется, таким, каким представлял его в будущем. Он верил в будущее.
– В будущее наци?
– Этого я не знаю. Я не помню, был ли он наци, да и какое это имеет значение сегодня? Во всяком случае, фанатиком он не был, я сужу по тому, что на политические темы он со мной никогда не разговаривал. Насколько я понимаю, он не одобрял и не осуждал, он просто не уделял этому внимания. Предпочитал не замечать.
– Интересно.
– Да, он, как я вспоминаю, мыслил своеобразно. Он говорил, что каковы люди сами по себе – большого значения не имеет. Что главное заключается в том, каковы у этих людей возможности. Самые плохие люди, говорил он, обладая большими возможностями, например, в медицине, могут практически больше помочь человечеству, чем даже очень хорошие люди, у которых таких возможностей нет и которые поэтому никому и ничем помочь не смогут. Мне кажется, это имело прямое отношение к его восприятию нацизма. Возможно, таким способом он оправдывал сам себя.