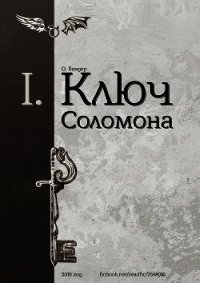Два капитана (худ. Л. Зеневич) - Каверин Вениамин Александрович (читать книги бесплатно txt) 📗
Он не договорил, и вдруг я увидел, что он плачет.
— Иван Павлыч, — сказал я, стараясь не смотреть на эту невероятную картину — плачущего Кораблева. — Значит, выходит, что он не виноват, а какой-то там фон. Почему же в таком случае Николай Антоныч всегда утверждал, что он руководил этим делом? Спросите у него, сколько сухого бульона взяла с собой экспедиция, сколько макарон, сухарей и кофе. Почему же он прежде никогда не упоминал об этом фоне?
Кораблев вытер платком глаза, усы. Он достал из стенного шкафчика водку, налил полстакана и тут же немного отлил назад дрожащей рукой. Он выпил водку и сел.
— Ладно, теперь все равно. — И он махнул рукой. — Но как я был слеп, страшно слеп! — вдруг снова с отчаянием сказал он. — Я должен был убедить ее в том, что это невозможно, невероятно, что, даже если это Николай Антоныч, все равно нельзя в неудаче такого огромного дела винить одного человека. Я мог сказать, что ты настаиваешь, что это — он, потому что ты его ненавидишь.
Я молча слушал Кораблева. Я всегда любил его и привык уважать, и мне неприятно было видеть его в таком жалком виде. Он сморкался, как женщина, и у него были растрепаны волосы и усы.
— Ненавижу я его или нет, — сказал я спокойно, — это не имеет ни малейшего отношения к делу. И я вообще не знаю, что вы хотите этим сказать. Что я настаивал нарочно, то есть из подлых личных побуждений?
Кораблев молчал.
— Иван Павлыч!
Он все молчал.
— Иван Павлыч! — заорал я. — Вы думаете, что я нарочно впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю Антонычу. Вот почему вы говорили, что если даже это он, а не какой-то там фон, — все равно в неудаче такого большого дела нельзя обвинять одного человека. Вы считаете, что я во всем виноват?.. Говорите же! Да? Считаете?
Кораблев молчал. У меня потемнело в глазах, и я услышал, как сильно и медленно бьется сердце.
— Иван Павлыч, — дрожащим, но решительным голосом сказал я, — теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав. И я докажу это. Я сегодня же пойду к Николаю Антонычу и попрошу его показать мне эти документы и письма. Он убедил вас, что в письме речь идет не о нем, а о каком-то фоне. Пускай же он и меня убедит.
— Делай что хочешь, — уныло сказал Кораблев.
Я ушел. Он не тронулся с места, так и остался у печки, усталый и в полном отчаянии. Мы оба были в отчаянии, но у меня к этому чувству присоединялось какое-то хладнокровное бешенство, а он был в безнадежной усталости, старый и совершенно один в пустой, холодной квартире.
Глава двадцать четвертая
КЛЕВЕТА
Легко сказать: я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной! Он спустит меня с лестницы — и вся недолга. Не стану же я драться с ним. Он все-таки больной и старый.
Я бы не пошел. Но одна мысль не оставляла меня: Катя.
У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от меня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это: Николай Антоныч уверил ее, что я во всем виноват.
Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило. «А, у твоего друга такая превосходная память. Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах?»
В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве? Я, читавший их наизусть в поездах между Энском и Москвою? Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд упавших в наш маленький город?
У меня было только одно объяснение — судите сами, верное или нет.
Когда Катя рассказывала мне историю своего отца, когда я рассматривал его на старых фото, в кителе с погонами, в фуражке с белым, поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги, мне всегда казалось, что это было очень давно, во всяком случае за много лет до того, как я уехал из Энска. А письма — это было мое детство, то есть совсем другое время. Мне просто не пришло в голову, что эти два совершенно разных времени следовали одно за другим. Здесь была не ошибка памяти, а какая-то совсем другая ошибка.
Тысячу раз я думал о «фоне». Так это о нем писал капитан Татаринов: «Вся экспедиция шлет ему проклятия». Так это о нем он писал: «Всеми нашими неудачами мы обязаны только ему». А Кораблев сказал, что в неудаче такого дела нельзя винить одного человека. Капитан думал иначе.
Так это о нем он писал: «Вот как дорого обошлась нам эта услуга». А почему бы, собственно говоря, какому-то «фону» оказывать капитану Татаринову эту услугу? Услугу ему мог оказать богатый двоюродный брат — недаром же я столько слышал от него об этой услуге.
Словом, у меня не было никакого плана действий, когда, в синей парадной курточке, вечером 2 февраля я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антоныч.
Через открытую дверь было видно, что в столовой пьют чай. Нина Капитоновна негромко сказала что-то, и я увидел ее в полосатой шали, сидящую у самовара…
Не знаю, что подумал, увидев меня, Николай Антоныч, но, появившись на пороге, он вздрогнул и немного отступил назад:
— Что тебе нужно?
— Я хотел поговорить с вами.
Он немного подумал.
— Зайди.
Я хотел пройти к нему в кабинет, но он сказал:
— Нет, сюда.
Потом я догадался, что это было нарочно: он заманил меня в столовую, чтобы расправиться со мной перед всеми.
Все немного испугались, когда вслед за ним я появился в столовой. Старухи Бубенчиковы, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили, и та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге.
Я пробормотал:
— Может быть, здесь неудобно?
— Нет, здесь удобно.
Нужно было сразу поздороваться, как только я вошел, а теперь, пожалуй, не стоило, но я все-таки поклонился. Никто не ответил, только Нина Капитоновна чуть заметно кивнула.
— Ну-с?
— Вы сказали Ивану Павлычу, что капитан Татаринов писал вам о каком-то фон Вышимирском. Мне это необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Марью Васильевну, только для того, чтобы как-то насолить вам. Так думает, например, Кораблев. И другие… Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой-то фон Вышимирский, а в смерти… (я проглотил это слово)… во всем остальном — я.
Это была довольно длинная речь, но я приготовил ее заранее и поэтому сказал без запинки. Только запнулся, когда сказал о смерти Марьи Васильевны, и потом еще на слове «и другие», потому что подумал о Кате. Она все еще стояла на пороге, вытянувшись и затаив дыхание.
Теперь только, во время этой речи, я заметил, как постарел Николай Антоныч. Он стал похож на старую птицу с горбатым носом, щеки опустились, и даже золотой зуб, который прежде как-то освещал все лицо, потускнел.
Он слушал меня и громко дышал. Казалось, он не знал, что мне ответить. Но в эту минуту вторая Бубенчикова спросила его с удивлением:
— Кто это?
И он перевел дыхание и заговорил.
— Кто это? — свистящим шепотом переспросил он. — Это тот подлый клеветник, о котором я говорю вам ежедневно и ежечасно.
— Николай Антоныч, если вы хотите ругаться…
— Это человек, который убил ее, — повторил Николай Антоныч. У него задрожало лицо, и он стал ломать пальцы. — Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив!
Никто и не думал, что он умер, и я хотел сказать ему об этом, но он опять закричал:
— Я еще жив!
Нина Капитоновна взяла его за руку. Он вырвал руку.
— Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все… За все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд, и по этим законам он когда-нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, — сказал Николай Антоныч, и слезы так и брызнули из его глаз. — Она умерла из-за него. Пускай же он живет, если может…