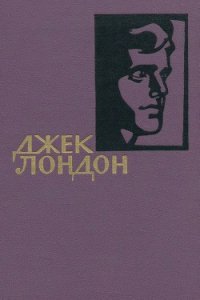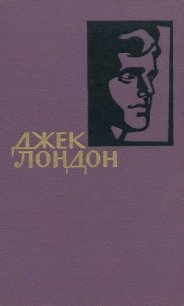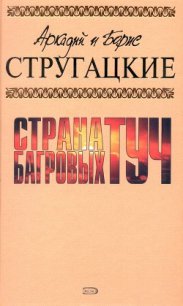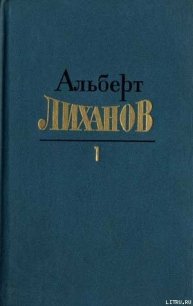Собрание сочинений в 14 томах. Том 5 - Лондон Джек (книги .txt) 📗
– Но Тэсс не может идти, – сказал Уомбл. – Ее легкие уже простужены.
– Вполне с вами согласен. Она не может идти десять миль по такому морозу. Безусловно, ей нужно остаться.
– Значит, так и будет, – решительно сказал Уомбл.
Месснер откашлялся.
– Ваши легкие в порядке, не правда ли?
– Да. Ну и что же?
Месснер опять откашлялся и проговорил медленно, словно обдумывая каждое слово:
– Да ничего… разве только то, что… согласно вашим же доводам, вам ничто не мешает прогуляться по морозу каких-нибудь десять миль. Вы как-нибудь их пройдете.
Уомбл подозрительно взглянул на Терезу и подметил в ее глазах искру радостного удивления.
– А что скажешь ты? – спросил он.
Она промолчала в нерешительности, и лицо Уомбла потемнело от гнева. Он повернулся к Месснеру.
– Довольно! Вам нельзя здесь оставаться.
– Нет, можно.
– Я не допущу этого! – Уомбл угрожающе расправил плечи. – В этом деле мне решать.
– А я все-таки останусь, – стоял на своем Месснер.
– Я вас выброшу вон!
– А я вернусь.
Уомбл замолчал, стараясь овладеть собой. Потом заговорил медленно, тихим, сдавленным голосом:
– Слушайте, Месснер, если вы не уйдете, я вас изобью. Мы не в Калифорнии. Вот этими кулаками я превращу вас в котлету.
Месснер пожал плечами.
– Если вы это сделаете, я соберу золотоискателей и посмотрю, как вас вздернут на первом попавшемся дереве. Совершенно верно, мы не в Калифорнии. Золотоискатели – народ простой, и мне достаточно будет показать им следы побоев, поведать всю правду и предъявить права на свою жену.
Женщина хотела что-то сказать, но Уомбл свирепо набросился на нее.
– Не вмешивайся! – крикнул он.
Голос Месснера прозвучал совсем по-иному:
– Будьте добры, не мешайте нам, Тереза.
От гнева и с трудом сдерживаемого волнения женщина разразилась сухим, резким кашлем. Лицо ее покраснело, она прижала руку к груди и ждала, когда приступ кончится.
Уомбл мрачно смотрел на нее, прислушиваясь к кашлю.
– Нужно на что-то решиться, – сказал он. – Ее легкие не выдержат холода. Она не может идти, пока не станет теплее. А я не собираюсь уступать ее вам.
Месснер смиренно хмыкнул, откашлялся, снова хмыкнул и сказал:
– Мне нужны деньги…
На лице Уомбла сразу появилась презрительная гримаса. Вот когда Месснер упал неизмеримо ниже его, показал наконец свою подлость!
– У вас есть целый мешок золотого песка, – продолжал Месснер, – я видел, как вы снимали его с нарт.
– Сколько вы хотите? – спросил Уомбл, и в голосе его звучало такое же презрение, какое было написано на лице.
– Я подсчитал, сколько приблизительно может быть в вашем мешке, и… э-э… думаю, что около двадцати фунтов потянет. Что вы скажете о четырех тысячах?
– Но это все, что у меня есть! – крикнул Уомбл.
– У вас есть Тереза, – утешил его Месснер. – Разве она не стоит таких денег? Подумайте, от чего я отказываюсь. Право же, это сходная цена.
– Хорошо! – Уомбл бросился к мешку с золотом. – Лишь бы скорее покончить с этим делом! Эх вы!.. Ничтожество!
– Ну, тут вы не правы, – с насмешкой возразил Месснер. – Разве с точки зрения этики человек, который дает взятку, лучше того, кто эту взятку берет? Укрывающий краденое не лучше вора, не правда ли? И не утешайтесь своим несуществующим нравственным превосходством в этой маленькой сделке.
– К черту вашу этику! – взорвался Уомбл. – Идите сюда и смотрите, как я взвешиваю песок. Я могу вас надуть.
А женщина, прислонившись к койке, наблюдала в бессильной ярости, как на весах, поставленных на ящик, взвешивают песок и самородки – плату за нее. Весы были маленькие, приходилось взвешивать по частям, и Месснер каждый раз все тщательно проверял.
– В этом золоте слишком много серебра, – заметил он, завязывая мешок. – Пожалуй, тут всего три четверти чистого веса на унцию. Вы, кажется, слегка обставили меня, Уомбл.
Он любовно поднял мешок и с должным почтением к такой ценности понес его к нартам. Вернувшись, он собрал свою посуду, запаковал ящик с провизией и скатал постель. Потом, увязав поклажу, запряг недовольных собак и снова вернулся в хижину за рукавицами.
– Прощайте, Тэсс! – сказал он с порога.
Она повернулась к нему, хотела что-то ответить, но не смогла выразить словами кипевшую в ней ярость.
– Прощайте, Тэсс! – мягко повторил Месснер.
– Мерзавец! – выговорила она, наконец.
Шатаясь, она подошла к койке, повалилась на нее ничком и зарыдала.
– Скоты! Ах, какие вы скоты!
Джон Месснер осторожно закрыл за собой дверь и, трогаясь в путь, с чувством величайшего удовлетворения оглянулся на хижину. Он спустился с берега, остановил нарты у проруби и вытащил из-под веревок, стягивающих поклажу, мешок с золотом. Воду уже затянуло тонкой корочкой льда. Он разбил лед кулаком и, развязав тесемки мешка зубами, высыпал его содержимое в воду. Река в этом месте была неглубока, и в двух футах от поверхности Месснер увидел дно, тускло желтевшее в угасающем свете дня. Он плюнул в прорубь.
Потом он пустил собак по Юкону. Они жалобно повизгивали и бежали неохотно. Держась за поворотный шест правой рукой и растирая щеки и нос левой, Месснер споткнулся о постромку, когда собаки свернули в сторону, следуя изгибу реки.
– Вперед, хромоногие! – крикнул он. – Ну же, вперед, вперед!
Обычай белого человека
(перевод М. Абкиной)
– Я пришел сготовить себе ужин на твоем огне и переночевать под твоей крышей, – сказал я, входя в хижину старого Эббитса. Его слезящиеся мутные глаза остановились на мне без всякого выражения, а Зилла скорчила кислую мину и что-то презрительно буркнула вместо приветствия. Зилла, жена старого Эббитса, была самая сварливая и злющая старуха на всем Юконе. Я ни за что не остановился бы у них, но собаки мои сильно утомились, а во всем поселке не было ни души. Хижина Эббитса была единственная, где оказались люди, и потому мне пришлось именно здесь искать приюта.
Старик Эббитс время от времени пытался преодолеть путаницу в мыслях; проблески сознания то вспыхивали, то потухали в его глазах. Пока я готовил себе ужин, он даже несколько раз, как полагается гостеприимному хозяину, начинал осведомляться о моем здоровье, спрашивал, сколько у меня собак и в каком они состоянии, сколько миль я прошел за этот день. А Зилла все больше хмурилась и фыркала еще презрительнее.
Да и то сказать: чему им было радоваться, этим двум старикам, которые сидели, скорчившись, у огня? Жизнь их подходила к концу, они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. Вдыхая запах мяса, которое я поджаривал на огне, они испытывали Танталовы муки и качались взад и вперед, медленно, в безнадежном унынии. Эббитс каждые пять минут тихо стонал. В его стонах слышалось не столько страдание, сколько усталость от долгих страданий. Угнетенный тяжким и мучительным бременем того, что зовется жизнью, но еще более – страхом смерти, он переживал вечную трагедию старости, когда жизнь уже не радует, но смерть еще не влечет, а пугает.
В то время, как моя оленина шипела и трещала на сковороде, я заметил, как дрожат и раздуваются ноздри старого Эббитса, как жадно он вдыхает аромат жаркого. Он даже на время перестал качаться и кряхтеть, и лицо его приняло осмысленное выражение.
Зилла, напротив, стала качаться еще быстрее и в первый раз выразила свое отчаяние отрывистыми и резкими звуками, похожими на собачий визг. Оба – и она и Эббитс– своим поведением в эту минуту до того напоминали голодных собак, что я ничуть не был бы удивлен, если бы у Зиллы вдруг оказался хвост и она стала бы им стучать об пол, как это делают собаки. У Эббитса даже слюни текли, он то и дело наклонялся вперед, чтобы его трепещущие ноздри были ближе к сковороде с мясом, так сильно возбуждавшим его аппетит.
Наконец я подал каждому из них по тарелке жареного мяса, и они принялись жадно есть, громко чавкая, причмокивая, беспрерывно что-то бормоча себе под нос. Когда все было съедено и чавканье утихло, я дал старикам по кружке горячего чая. Лица их выражали теперь блаженное удовлетворение. Зилла облегченно вздохнула, и угрюмые складки у ее рта разгладились. Ни она, ни Эббитс больше не раскачивались, и, казалось, оба погружены были в тихое раздумье. Я видел слезы в глазах Эббитса и понимал, что это слезы жалости к самому себе. Оба долго искали свои трубки – видно, они давно уже не курили, потому что не было табаку. И старик так спешил насладиться этим наркотиком, что у него руки тряслись – пришлось мне разжечь ему трубку.