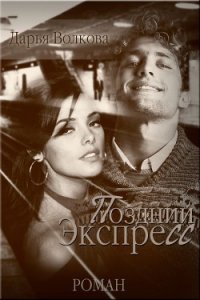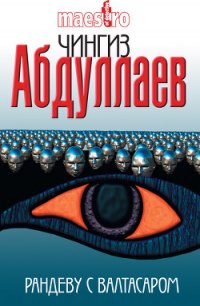Старый патагонский экспресс - Теру Пол (читать онлайн полную книгу TXT) 📗
— Я не вижу смысла в мести, — сказал он. — Я никогда не понимал, зачем она вообще существует. И я никогда не писал ни о чем подобном.
— А как же «Эмма Цунц»?
— Да, но это единственный такой рассказ. Собственно говоря, он достался мне уже готовым, и я никогда не считал его хорошим.
— Значит, вы не одобряете, когда кто-то гневается или жаждет отомстить за причиненные обиды?
— Месть не исправит того, что уже сделали с вами. Точно так же, как и прощение. Ни месть, ни прощение не имеют смысла.
— А что же вы предлагаете?
— Забвение, — сказал Борхес. — Это единственное, что вы можете сделать. Если со мной случается что-то плохое, я стараюсь внушить себе, что это было давным-давно и с кем-то другим.
— И это помогает?
— Более менее, — он показал свои желтые зубы. — Скорее менее, чем более.
Заканчивая разговор о мести, он снова выхватил из воздуха новую тему, правда, смежную с предыдущей. Вторая мировая война.
— Когда я почти сразу по окончанию войны попал в Германию, — сказал он, — я не слышал ни слова в осуждение Гитлера. В Берлине немцы спрашивали меня — тут он перешел на немецкий: «Вы видите, что здесь творится?» Немцы вообще любят, чтобы их жалели. По-моему, ужасная черта. И они все время показывали мне свои руины. Они хотели вызвать во мне жалость. Но с какой стати я должен был их жалеть? И я отвечал им, — он снова перешел на немецкий: — Я видел Лондон.
Мы продолжили разговор о Европе. Вспомнив о Скандинавии, мы неизбежно пришли к Нобелевской премии. Я не стал напоминать об очевидном, что самого Борхеса предложили в кандидаты. Но он признался:
— Если бы мне ее присудили, я бы помчался тут же, чтобы ее получить. Но разве ее дают американским писателям?
— Стейнбеку дали, — напомнил я.
— Нет, я в это не верю.
— Это правда.
— Я не верю, что Стейнбек все же ее получил. А вот Тагор получил, хотя был паршивым писателем. Он писал деревенские стихи: луна, цветочки. Стихи для домохозяек.
— Может быть, они много потеряли при переводе с бенгальского на английский?
— Они могли только выиграть от такого перевода. Но они слишком примитивны, — он улыбнулся, и его слепое лицо приобрело блаженный вид. Так случалось постоянно, и в такие мгновения по его мимике можно было понять, что он углубился в воспоминания. Он сказал: — Тагор приезжал в Буэнос-Айрес.
— Это было после того, как он получил Нобелевскую премию?
— Наверное, да. В противном случае Виктория Окампо ни за что не пригласила бы его на свой званый ужин, — он ехидно хихикнул. — И мы там поспорили. Тагор и я.
— Из-за чего же вышел спор?
Борхес прибег к нарочито напыщенному тону. Он использовал его, когда хотел облить кого-то презрением. И теперь он важно вскинул голову и произнес:
— Он позволил себе ерничать по поводу Киплинга.
В тот вечер мы встретились, чтобы прочесть рассказ Киплинга «Dayspring Mishandled» [63], но до него дело так и не дошло. Было уже поздно, пора ужинать, а мы увлеклись разговором сперва о рассказах Киплинга, а после о рассказах ужасов вообще.
— «Они» — замечательный рассказ. Мне нравятся рассказы ужасов Лавкрафта. У него очень хороший сюжет, только стиль слишком грубый. Я как-то посвятил ему свой рассказ. Но он был намного слабее, чем «Они», — вот где настоящий мрак.
— Мне кажется, что Киплинг писал о своих собственных погибших детях. Его дочь скончалась в Нью-Йорке, его сына убили на войне. И он никогда больше не возвращался в Америку.
— Ну, — заметил Борхес, — он же поссорился с шурином.
— Но они выставили его дураком в суде, — возразил я.
— Выставили дураком… Попробуйте сказать это на испанском! — Он улыбался, явно довольный собой, и тут же добавил с напускной сердитостью: — Вы вообще ничего толком не сможете сказать на испанском.
Мы отправились ужинать. Он спросил, чем я занимался в Южной Америке. Я ответил, что прочел несколько лекций по американской литературе и что дважды подвергался осуждению мужской частью испаноязычной аудитории за то, что публично называл себя феминистом. Борхес ответил, что в Латинской Америке это вообще очень болезненная тема. Я продолжал свой рассказ и перечислил ему авторов, о которых читал лекции: Марка Твена, Фолкнера, По и Хемингуэя.
— А что вы думаете о Хемингуэе? — тут же спросил он.
— Он повинен в одном большом грехе, — сказал я. — И я считаю это очень серьезным недостатком. Он обожал корриду.
— Вы не могли выразиться точнее, — согласился Борхес.
Мы с удовольствием поужинали, и потом, по дороге к его многоквартирному дому (причем он снова постучал тростью по столбикам у гостиницы), Борхес сказал:
— Да, судя по всему, мы с вами согласны по очень многим пунктам, не правда ли?
— Возможно, — ответил я. — Но все же в ближайшее время я отправлюсь в Патагонию.
— Мы не говорим «Патагония», — заметил он. — Мы говорим «Чубут» или «Санта-Крус». Но никогда не говорим «Патагония».
— А Уильям Хадсон [64]говорил «Патагония».
— Да что он мог знать?! Его «Праздные дни в Патагонии» — неплохая книга, но вы наверняка заметили, что там вообще нет людей: сплошные птицы и растения. Так оно все и обстоит в Патагонии. Там вообще нет людей. А Хадсон имеет один большой недостаток: он все время врет. Эта книга — настоящий образчик лжи. Но он так верит в эту ложь, что очень скоро сам теряет грань между правдой и вымыслом, — Борхес задумался на миг и продолжил: — В Патагонии вообще ничего нет. Конечно, это не Сахара, но наиболее близкий к ней вариант для Аргентины. Нет, в Патагонии нет ничего.
И я подумал, что если это правда — и там действительно ничего нет, значит, это превосходное место для того, чтобы достойно закончить эту книгу.
Глава 21. Экспресс «Лагос-дель-Сюр» («Южные озера»)
Патагония также означала и дорогу домой. Я уже несколько раз отменял заказанные билеты для того, чтобы подольше побыть с Борхесом, но в конце концов набрался решимости и составил твердый план дальнейшего путешествия на юг. У меня еще оставалось несколько дней до отъезда, но, отрешившись от той увлеченности, с которой Аргентина праздновала Пасху, я гулял по Буэнос-Айресу в одиночестве. Теперь он нагонял на меня уныние. Первоначальное очарование развеялось, и вместо этого город подавлял меня. Возможно, это началось с посещения трущоб Ла-Бока, расположенных в портовом районе, где тощие мальчишки купались в маслянистой и дурно пахнущей воде залива. Теперь мне виделась не столько красота, сколько притворство в особняках и ресторанах в сицилианском стиле — грязь и убожество сквозили повсюду. Я побывал на кладбище Чакарита, как и положено порядочному туристу. Я отыскал могилу Перона и увидел женщин, лобызающих его лоснящееся бронзовое лицо и прикрепляющих гвоздики к ручке двери в склеп. («Фантастика!» — прошептал стоявший рядом мужчина. «Это круче футбола!» — вторила его жена.) Однажды ночью, когда Роландо вез меня по городу, нас задержал полицейский на мотоцикле. Он махнул рукой, приказывая прижаться к обочине. Роландо подчинился. Полицейский сказал, что он проехал на красный свет. Роландо настаивал на том, что свет был у зеленый. Наконец полицейский сдался: свет был зеленый.
— Но это ваше слово против моего, — заявил полицейский тоном профессионального вымогателя. — Вы хотите торчать здесь всю ночь или мы решим вопрос сейчас же?
Роландо вручил ему сумму в песо, равную примерно семи долларам. Полицейский козырнул и пожелал нам счастливой Пасхи.
— Я уезжаю, — сказал я Роландо.
— Вам не понравился Буэнос-Айрес?
— Нет, понравился, — сказал я. — Но я хочу уехать, пока он не перестал мне нравиться.
Экспрессу «Южные озера» потребовался целый час, чтобы выбраться за городскую черту. Мы тронулись от вокзала в пять часов дня, в солнечную погоду, но когда поезд набрал скорость в открытой пампе, в вагоне стало прохладно, и вскоре наступили сумерки. Закат быстро угас, и в полутьме трава стала серой, а деревья черными. Массивные туши бурых коров напоминали гранитные валуны, а на одном поле паслось пять белых животных, как будто кто-то развесил простыни на просушку.
63
Из сборника «Ограничение и обновление» 1932 года.
64
Уильям Хадсон (1730–1793) — британский ботаник.