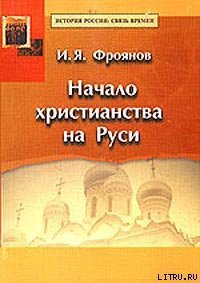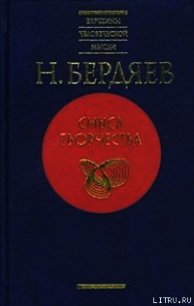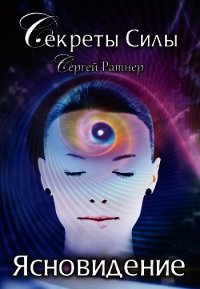Турция. Записки русского путешественника - Курбатов Валентин Яковлевич (бесплатные книги полный формат txt) 📗
Читали в этот день из «Послания к эфесянам», и сердце летело домой, потому что апостол называл в качестве условия исцеления мира (а кто более нас нуждается в исцелении?) — «единство духа в союзе мира». «Одно тело и один дух… один Господь, одна вера, одно крещение». «Ведь как просто», сказал бы Толстой, но именно из-за простоты и неподъемно и навсегда впереди, потому что мир предпочитает пути полегче.
*
Потом мы уже без остановки летели «домой», в малый городок Кызкалеси, в отель «Барбаросса», чьи радушные хозяева встречали нас в аэропорту и вместе с нами делили первые молебны, уважительно присматриваясь к неведомым для себя обрядам. Вышел к дороге благородный, столично-торжественный, забывший в себе древний Помпейополь, Мерсин в небоскребах банков и «хилтонов», в белизне молодых кварталов, в щегольском карауле голых пальм с киверами крон по вершинам, во всей обычной для южных городов праздничной легкости, и вызвал в памяти летучую тютчевскую строчку «О, этот Юг! О, эта Ницца!» Значит, наверное, и там, в Ницце, так же сияет день и так же сверкает вдоль шоссе море.
Вдоль всего побережья — полугородки-полусела в отелях, кемпингах, ресторанчиках, в диких пустырях, обнажающих скудную плоть этой первоначально голой земли, в выбегающих к дороге лавочках, вываливающих свои пестрые внутренности, свой жалкий цветистый «ливер». И олеандры, заккумы, магнолии, акации в привычном, каком-то «рабочем», не удивляющем цветении, хотя на дворе ноябрь. Наш неблагодарный взгляд привыкает скоро и уж чуть не устает, забыв, что еще утром зяб от ледяных порывов какого-то одушевленно враждебного московского ветра.
Приехали «домой» затемно. Расходился дождь, чтобы все-таки не делать переход от Москвы слишком резким. Но нельзя было утерпеть, чтобы не выбежать к морю и не искупаться. Молнии безмолвно кроили небо за стоящей в полукилометре от берега «Девичьей крепостью», давшей название месту, борясь с ночной подсветкой ее величавых руин и озаряя мгновенным белым огнем волны, мокрую зелень пальм и капители колонн, расставленные на газонах перед отелем.
Говорят, когда отель был завершен, директор послал два самосвала, и они через несколько часов привезли эти антики с окрестных гор. Осталось их только пронумеровать и поставить под охрану. Мы убеждались в правоте подобного фантастического рассказа в прошлые приезды, убедимся и теперь. Никого не беспокоит, что камень потерял «прописку» и теперь мается в бездомности и глядит нарядным беспризорником. Где-то теперь уже навсегда покалечен храм, поврежден мавзолей, погибла центурия, потому что пересаженные органы в архитектуре приживаются так же тяжело, как в человеческом теле. Когда этих камней много, об этом не думаешь. А здесь подлинно, кажется, нет каменного осколка, который не знал бы руки римлянина или грека. Господь передал землю человеку, а оттого, что здесь ею был камень, человек благодарно и вырастил сад великой архитектуры, восславившей Творца в лесах колоннад, создал целый мир скульптуры.
Фикус под окном номера уходил в небо, и глянцевые листья его сверкали от дождя и гремели под каплями, как хорошая кровля. Для фикусов наступила весна, и они выбрасывали малиновые копья свернутых листочков с какой-то бесстыдной энергией и жадной силой.
Открытие Киликии
А на следующий день мы увидели эту Девичью крепость поближе. Она была украшена нехитрым мифом о несчастном короле, узнавшем из предсказания гадателя о смерти дочери в день совершеннолетия от укуса змеи. Потрясенный отец выстроил принцессе этот замкнутый морем и башнями мир, напрасно надеясь провести судьбу. Змея в день рождения была нечаянно принесена кем-то из гостей в корзине с виноградом (поневоле вспомнишь родную детскую хрестоматию: «и вскрикнул внезапно ужаленный князь»), и крепость осталась подтверждением бессилия человека перед всевластием рока.
Но если вспомнить живую реальность древней истории этой земли, слывшей колыбелью морского и сухопутного пиратства, с которым потом будет много хлопот у римлян, то вернее предположить, что здесь легко было укрыться в случае опасности равно и от горных, и от морских набегов. Цистерны для воды вместительны, храмы прекрасны (их мозаичные, едва открытые археологами полы, если плеснуть из ведра, вспыхивают молодой чистотой вчерашних красок), башни надежны, гарнизон храбр. Глухой стеной выходя к морю, крепость оглядывается на берег прекрасными арками — прямо на город Корикос и стоящую на берегу величавую старшую сестру — береговую крепость. Арки полны небесами и чистотою форм напоминают так любимые Возрождением в живописи арки Леонардо и Фра Анджелико, Больтраффио и Джотто, Пьетро делла Франческа и Джентиле да Фабриано.
А крепость Корикос глядит с берега на Девичью, чувствуя себя защищеннее, и может позволить себе роскошные морские ворота вполнеба, в которые, точно в раму, торопятся вписаться облака и птицы и рано в ноябре восходящая луна. Не раз поверженная землетрясением, крепость воскресала снова, мало церемонясь с замыслами предшественников, используя руины дивных колонн в качестве простой арматуры, так что только чистота срезов в циркульной легкости или зубцах каннелюров выдает их прежнюю колонность. Так использовались вновь обращенными христианами колонны храмов Артемид и Аполлонов, так возвращающиеся с Юлианом Отступником (он проходил здесь походом на Персию) язычники мстительно загоняли в стены крепости камень христианских церквей.
В самых неожиданных местах найдешь вдруг великолепную менору — чистый семисвечник ветхозаветных престолов — или все те же, уже привычные, вычерченные упорной рукой кресты всех форм и стилей. И в этом взаимном произволе и тайном соперничестве отчетливее всего почувствуешь голос борьбы сменяющих друг друга вер и династий, равнодушие и горячность мерно шедших этой землей веков.
Нет уже ни храмов, от которых сохранилось только имя императора, при котором они были ставлены в крепости (Анастасий, 491–518), ни следов перестройки при «крестоносном» адмирале Евгении (1103–1104). Можно было бы не знать и этих подробностей (здешняя история почти бессловесна), камни все равно проговорились бы о своем беспокойном прошедшем. Пылкая жизнь за крепостными стенами, неуступчивое соревнование честолюбий азиархов, властителей провинций, полководцев, подражателей имперской славы не могло не отразиться и в лице оберегающей империю крепости.
Когда бы мы еще умели читать речь камня, то извлекли бы хороший урок, что нельзя считать прошедшее только выжившим из ума основанием своего высокого «прогрессивного» миропонимания, иначе история найдет случай посмеяться и в свой черед определить в безумцы тебя самого.
Через дорогу от крепости вырос каменный город усыпальниц этого много повидавшего места. Тут впервые, как нигде, видно, что великолепные саркофаги греческих, римских, византийских насельников иссекались благодарными потомками, а то и самими предусмотрительными, не надеющимися на собственных детей и внуков гражданами, не из отдельных блоков, а прямо из скал и извлекали как будто до времени таящуюся, но вполне готовую, самим Творцом заложенную красоту высокой символики.
Каменный воин возрастом в двадцать четыре столетия воздевает меч при входе в этот город мертвых с его приземистой, не умеющей оторваться от скал архитектурой, но охранять ему уже некого. Крышки саркофагов сдвинуты или разбиты, закрывающие вход камни повержены, гробницы пусты. Мертвое человечество, как и по всей земле вокруг, ушло в небеса, не оставив следа, словно и не имело плоти, а было только великим духом, строившим этот и в поверженном виде все еще великий мир.
Слава Богу, для странного и чудесного прибрежного города суровой Киликии нашлось доброе слово у Теодора Моммзена, что вполне сойдет за прописку в бессмертии. Великий историк, прибегая к исследованиям Ланглуа и Дюшена, напоминает, что по гробницам Корикоса древники восстанавливали «социальный срез» римского города. По латыни сохранившихся надписей нашли здесь виноторговцев и гончаров, медников и ткачей, башмачников и скорняков, садовников и менял, повивальных бабок и пресвитеров. А ведь это значит, что город мог жить полно и самостоятельно, не беспокоясь, что войны или недостаток дорог лишат его связи с миром. Он сам мог быть здоровым, ни в ком не нуждающимся государством. И Моммзен, не пряча любви к этому малоазиатскому переводу Рима в его лучшие дни, чудесно пишет, что «здесь меньше, чем в Элладе, бесполезные воспоминания и неясные надежды манили людей за пределы… родного города, и в жизни граждан было мало событий, которые могли бы препятствовать мирному наслаждению счастьем»[4].