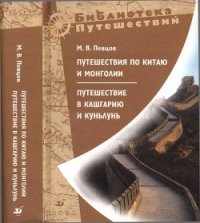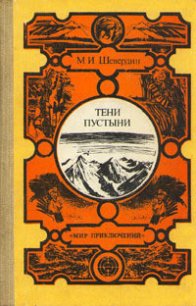Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии - Венюков Михаил Иванович (книги .txt) 📗
— А где же Егор Петрович? — спросил государь Горчакова.
— Он болен, ваше величество.
— Серьезно?
— Да, и очень. Я вчера посылал сына узнавать о его здоровье.
— Сына, а сами вы не навещали его?..
Разумеется, после этого князь отправился сам; но разумеется также, что подобный вынужденный визит только подлил горечи в его отношения к Ковалевскому, и потому удаление последнего не приносит чести канцлеру сугубо. Во-первых, очевидно, что основною причиною его было чувство зависти к превосходству сотрудника, которое едва ли было извинительно и в том случае, если Ковалевский иногда подсмеивался над «людьми белой кости», то есть над аристократами, к которым Горчаков, конечно, себя причислял. Во-вторых, минута удаления полезного, хотя и неприятного, подчиненного была выбрана «аристократом» вовсе не по-барски, не по-княжески, а по-подъячески, именно когда брату Егора Петровича пришлось сойти со сцены при защите либерального университетского устава от нападков таких защитников мракобесия, как Панин, Долгоруков и К0. Если бы князь Горчаков был действительный grand-seigneur {1.49} и на самом деле представлял в составе русского правительства элемент просвещенного либерализма (как он иногда хвалился), то ему следовало бы скорее, при постигшем даровитого помощника семейном огорчении, выдвинуть его вперед, чем втоптать в грязь. Но в том-то и сила, что возвышенной, благородной души он не имел, да не имел и дара проницательности при оценке людей, потому что в преемники Ковалевскому выбрал Игнатьева {1.50}, который потом тринадцать лет досаждал ему гораздо сильнее, чем капризный старик, «путешественник славный». Я лично Ковалевского знал немного; однако, когда приходилось с ним говорить, я всегда чувствовал удовольствие, которое ощущаешь от беседы с человеком большого ума и широких взглядов. Знал я его и директором, в казенной квартире на Мойке, скромно, но оригинально украшенной разными восточными безделками, и сенатором, в небольшом частном помещении по Фонтанке: он неизменно оставался тем же дельным, проницательным и остроумным человеком, ум которого не старел. У меня даже есть от него на память книга о войне 1854 года на Дунае, с оригинальным по смелости предисловием и многими блистательными страницами, свидетельствующими о дарованиях автора. Книгу эту военно-ученые педанты держали целых десять лет под спудом, но, наконец, посовестились похитить совсем и даже предложили автору на издание деньги…
Занятый приготовлением к Уссурийской экспедиции, я не слишком внимательно следил за теми общими вопросами, решение которых вызывало Н. Н. Муравьева на пребывание в Петербурге; но все же знал, что по отношению к Амуру дело идет о двух предметах первостепенной важности, именно о продолжении заселения его в размерах гораздо больших, чем в 1857 году, и о передаче генерал-губернатору Восточной Сибири тех полномочий на заключение с Китаем договора об Амурском крае, которые были даны другому лицу. Подписание трактата с китайцами о признании за нами всего левого и части правого берега Амура должно было явиться венцом многолетней деятельности Н. Н. Муравьева, и понятно, что он не желал отдать этого венца другим. Дело это и устроилось к началу 1858 года, так что я уже в Петербурге знал, что предстоящей весной будут идти у генерал-губернатора переговоры с китайскими уполномоченными. Возникли толки о проведении наилучшей границы с Маньчжурией в теперешней Приморской области. Одни говорили, что достаточно будет нам взять треугольник между устьем Уссури, заливом Де-Кастри и Императорской гаванью {1.51}; другие указывали на Ольгинскую гавань, как на южный предел приобретений, которых нужно желать. Надобно, однако, заметить, что на виду были предположения и еще более смелые. Осенью 1857 года вышла в Лондоне карта всего света, изданная, если не ошибаюсь, официальным английским картографом Станфордом. На ней русская граница в Восточной Азии была проведена по прямой линии от Абагайту к Желтому морю, так что почти вся Маньчжурия признавалась русскою провинциею. Говорили, что границу эту Станфорд провел по указаниям нашего военного агента в Лондоне, Н. П. Игнатьева, а этот последний будто бы только выразил чертежом мысль и предположение императора Николая; но за достоверность этих слухов я не ручаюсь и заношу их сюда лишь как слухи, носившиеся в среде, которая до некоторой степени призывалась к подаче голоса по амурским делам и интересовалась всякого рода относившимися к ним предположениями.
Н. Н. Муравьев уехал из Петербурга вскоре после Нового года; я остался на некоторое время, чтобы получить заказанные мною разные инструменты для штаба и для сахалинских угольных копей, принять из библиотеки Главного штаба выхлопотанные мною на подержание в Иркутске книги и т. п. Долго заживаться, однако, было нельзя, и вот новые 6 000 верст в течение года, так что, считая поездку на Амур и разъезды по Забайкалью, я сделал, с февраля 1857 по февраль 1858 года, более 22 000 верст, из которых около 2 600 верст водою, 18 000 на почтовых или курьерских и только 1 800 верст по железной дороге. Привожу эти цифры, чтобы показать, какова была тогда служба в Восточной Сибири, потому что я далеко не составлял исключения, и многие ездили еще больше меня, особенно адъютанты и чиновники особых поручений генерал-губернатора. Я уже имел случай заметить, что над этими разъездами восточносибирских чиновников смеялись в Петербурге; «Искра» {1.52} напечатала ряд карикатур на этот счет, где представила даже портреты некоторых из курьеров с подписью, что «на привезенных ими бумагах собственною его превосходительства рукою изображено: «к сведению». Но повторяю: разъезды были неизбежны. Я, например, привез важные депеши из Пекина и Тяньцзиня, которые ускорили решение дела о предстоявшем заключении договора об Амуре по крайней мере на две недели. Ведь почта от Иркутска до Петербурга ходила с лишком месяц, а я приехал в 17 1/2 дней. Кроме того, не привези я из Петербурга в Иркутск своевременно инструментов для сахалинских горных работ, последние не могли бы быть начаты в 1858 году и офицер со штейгерами прожили бы на Сахалине даром, без дела. Покупать же такие инструменты заочно значило бы наверное получить дрянь и опять бог знает когда, с обозами. И подобными поручениями сопровождались почти всегда курьерские поездки офицеров и чиновников, отправлявшихся в Петербург, хотя, конечно, бывало курьерам даваемо немало и частных комиссий, как это постоянно делается в России [17].
По возвращении моем в Иркутск опять начались неприятности. Будогосскому было досадно, что генерал-губернатор, не спросясь его, отдал Уссурийскую экспедицию мне. Узнав довольно близко его характер, я опасался с его стороны всякого рода мер к тому, чтобы исполнение моего поручения обставить самыми невыгодными условиями. И что мои опасения могли быть не напрасны, это доказал пример 1859 года с моим товарищем, Ельцом. Его Будогосский так обставил, что он едва не умер с голоду около Владимирской гавани, был спасен от голодной смерти случайно зашедшим в бухту английским судном, а от всех прочих страданий был, наконец, избавлен случайно же транспортом «Байкал», отвезшим его в Николаевск. Еще на пути в Уссурийский край, зимою 1859 года, Будогосский требовал от того же Ельца, чтобы он не ехал в санях, а шел пешком, и когда тот отказался, то публично кричал на него: «Выходите же! Вам, армейской крысе, ведь должно быть привычно месить снег пехтурою…» И Елец писал мне потом: «Что было делать с таким негодяем? Дать ему по роже? Да ведь о такую рожу и рук марать не хотелось: он бы, вероятно, потребовал денежного вознаграждения…»
Со мною, в 1858 году, по счастью дела так далеко не зашли, но это, конечно, лишь благодаря случаю. Именно составление команды для моей экспедиции и снабжение ее запасами поручено было, мимо Будогосского, М. С. Корсакову, то есть лицу, стоявшему вне штабных интриг, и моими спутниками на Уссури явились люди усердные и хорошо всем снабженные. Но в собственно штабной среде Будогосскому таки удалось сделать мне немалую подлость. По распоряжению генерал-губернатора и утвержденной им смете экспедиции предполагалось дать мне в помощь двух топографов. Будогосский распорядился так, что этих топографов я не видел в глаза, и, следовательно, мне приходилось одному сделать то, что должны были делать трое. Мало того, из довольно значительного запаса топографических инструментов, находившихся в Иркутске, мне были отпущены самые дурные, например буссоли с размагнитившимися стрелками и тупыми шпильками. По счастью, я всегда имел, как и теперь имею, этого рода инструменты собственные, разумеется, исправные. С этой стороны, стало быть, маневры были бесполезны. Зато Будогосский не поскупился на личные оскорбления такого свойства, что я дал себе слово: как только окончу экспедицию, уехать из Восточной Сибири, какие бы внешние условия службы ни пришлось принять после отказа от должности старшего адъютанта штаба. Я это потом и сделал.
17
В бытность двора в Крыму, в 1871 году, курьеру военного ведомства навязано было столько царского черного белья, что он не мог везти его на одной тройке и попросил у графа Адлерберга дополнительных прогонов на другую. Прогоны были даны, но Адлерберг взыскал их потом с военного министра. Что же удивительного, что иркутский курьер, капитан Оларовский, возил меха и кедровое масло из Иркутска, от Извольских, в Петербург, Сухозанету? Притом он не брал лишних прогонов.