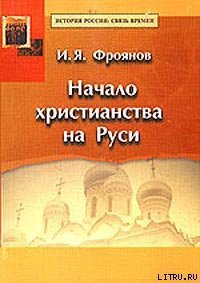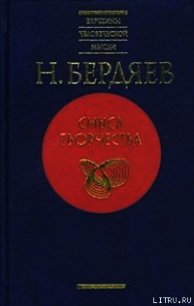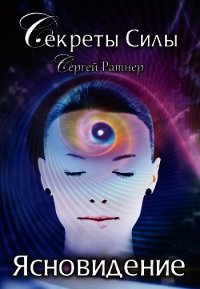Турция. Записки русского путешественника - Курбатов Валентин Яковлевич (бесплатные книги полный формат txt) 📗
*
Когда мы вышли из Хоры, даже и день словно поднялся и обрел царственность, и потом, когда мы ехали к Влахернской церкви, Золотой Рог сиял синевой и башни и стены Феодосия Великого казались по-прежнему неприступны в былой своей неколебимой мощи. И Влахернской церкви Божией Матери было спокойно за этими стенами. Она тысячелетие держала город своими святынями (построена в 435 году, а сгорела в 1434-м). Здесь хранились Риза Богоматери и Ее пояс. И городу было чем ограждаться от врагов. Помянутый мной путеводитель не без внутренней улыбки сообщает: «От погружения хранившейся здесь Ризы Богоматери в волны залива восшумела спасительная буря для князей Аскольда и Дира, и от Ее Пречистого Лика воссияло наше православие». Если расшифровать эту темноватую фразу, откроется, что Богоматерь просто потопила суда наших славянских князей своим покровом в Золотом Роге при их попытке в 911 году взять город, и князья ушли ни с чем.
Об этом нам не без иронии напомнил нынешний смотритель храма — грек с маслинными глазами.
Нынешний храм воскрешен столетие назад и так беден, что над ним и креста нет. Но святой источник Агиасма все источает воду, и храм продает ее. И от Агиасмы надо подниматься к фундаменту первого храма, сгоревшего в 1070 году, потом второго, сгоревшего в 1434-м, и наконец, к паперти сегодняшнего — все выше и выше. И только поднявшись, чувствуешь, что настоящая-то высота осталась там, внизу и, поднимаясь, ты опускался.
А на улыбку смотрителя осталось сказать, что мы не стыдимся урока, преподанного Богородицей, и отмечаем Покров как дорогой сердцу, близкий, внутренне народный праздник. Потому что услышали тогда, за восемьдесят лет до принятия христианства, свет и силу заступничества, смиренно и благодарно приняли его.
С веками эта великая церковь будет медленно терять память и высоту предстояния. В пору иконоборчества ее распишут цветами и плодами, и, по свидетельству иронических историков, она станет больше походить на зеленную лавку. Когда же империя слишком приблизится к церкви и забудет Христовы слова, что «Царство Мое не от мира сего», торопясь управить небесное и земное своей волей, церковь окажется втянута в мрачный хоровод дворцовых интриг. Императоры уже давно без прежнего волнения и смирения омывались в водах Агиасмы перед вступлением на престол, и лестница, соединявшая Влахернский императорский дворец с храмом, служила не для того, чтобы оставить земную гордость властелина для поклонения Царю Небесному, и французский исследователь Шлумберже уже уподоблял ее Версальской: «Сегодня там император на носилках, окруженный… длинным рядом священников и монахов, бросает беспокойный взгляд на толпу сановников, среди которых он ежеминутно ищет грядущего убийцу и счастливого своего заместителя, который прикажет бросить на арену цирка его изуродованный труп; завтра тут поспешно с трепетом идет патриарх с длинной седой бородой в своем золотом одеянии; он знает, что царь, охваченный мрачным богословским духом, призывает его во дворец, чтобы предоставить ему выбор между ересью, которая погубит его душу, и убийственной ссылкой на какую-нибудь ужасную скалу Мраморного моря. Сегодня тут торопливо ведут в церковь принцесс, матерей, жен или дочерей какого-нибудь убитого или свергнутого императора, чтобы остричь им волосы, сорвать с них пурпурные расшитые жемчугом туники и отвести в темных монашеских одеждах в какой-нибудь монастырь до конца их дней»[8].
После этого покажется естественным, что церковь не удержалась в прежних руках и с 1204 года, со взятия Константинополя крестоносцами, сделалась латинской. В ней уже не было увезенной в Рим руки св. Георгия, не было Животворящего Креста и мощей апостола Луки. Не было образа Одигитрии, писанного рукой апостола.
Теперь из святынь осталась одна Агиасма. Двор беден, ржавая колокольня, сваренная из железа, с единственным колоколом царапает взгляд. А отсутствие креста над какой-то садовой скрытной архитектурой церкви отзывается прямой болью.
Но пора идти к патриарху, ведь мы на его канонической территории ставили два года назад памятник Святителю Николаю. И сейчас просили его о встрече для обсуждения возможности установки памятников апостолу Павлу в Тарсе, Святой равноапостольной Фекле в Селифке и Святым Кириллу и Мефодию под Кизиком на месте Полихрониева монастыря.
В фойе патриаршей резиденции останавливает внимание мозаика с изображением апостола Андрея и поставленного им в епископы древнего Византия апостола от семидесяти Стахия. Это земля их проповеди. В приемной, как и у наших епископов, портреты предшественников сегодняшнего патриарха по кафедре. Ряд начинается тем же апостолом Стахием и продолжается Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом. Поневоле вздрогнешь и не решишься сесть. Как же должен чувствовать себя человек, продолжающий дело таких отцов Церкви, мучеников, изгнанников, святителей? Когда бы этот ряд был полон, мы увидели бы и портреты тех восемнадцати патриархов Константинополя, которые остались в памяти церкви еретиками.
Ожидание становится тревожным и вертится в памяти титул патриарха «Святейший, величайший господин, князь и владыка, архиепископ Константинополя, нового Рима и патриарх Вселенной».
Кабинет патриарха оказывается прост и удобен. Хорошего греческого письма старая Одигитрия за спиной Святейшего была чуть не единственным украшением. Вероятно, такая же была создана апостолом Лукой в пору первой силы Влахернского храма, когда украшавшая ее пелена каждую пятницу открывала Лик Богородицы и оставляла Его явленным до субботы. Так что была утверждена специальная пятничная литургия, которую служили патриархи, а Великую Пятницу стояли и императоры. Назавтра мы встретим патриарха во Влахернах за этой литургией и обрадуемся, что этот тысячелетний обычай, потеряв царскую роскошь и лишившись самого Образа, который крестоносцы увезли в Венецию, сохраняется в прежней чистоте.
Впрочем, образ Одигитрии за спиной патриарха мог напоминать и другую Одигитрию, писанную апостолом Лукой, — ту, которая обходила город при бедствиях и на Пасху полагалась в Хоре для общего поклонения, пока при падении Константинополя захватчики, сорвав драгоценности, не разрубили ее на четыре части. В обоих случаях это был образ молитвы и памяти и соединял земное и небесное. И мне было в радость преподнести патриарху Варфоломею альбом о Сергиевой обители и напомнить, что и Сергия до пострижения звали Варфоломеем и что он не только чтил, но и видел Богородицу при своем служении.
Патриарх благодарил по-русски, и было видно, что многое понимает и без усилий переводчика. Он знал о нашей работе по прошлому приезду и благословлял новые усилия напомнить русскому человеку, что Турция не только рынок и место отдыха, а и Византия, родина его веры.
Когда мы вышли, я снова оглянулся на ряд предшественников патриарха. Там были святые и простые слабые люди, которые бывают и в патриархах. Там были свидетели славы Константинополя и унижения Церкви в пору Османской империи, но, слава Богу, ряд не обрывался, преемство не пересекалось и Великая церковь, даже отмеченная в путеводителе как «низкое убогое здание», в глубине предания та же Великая, в которой ослабленно, а порой и болезненно для нас бьется стареющее, усталое, но все такое же христианское сердце.
На улице уже был вечер. Юг ведь — темнеет скоро. Но мы еще поднялись к Софии, прошли по ипподрому с его обелисками и колоннами и даже заглянули в Голубую мечеть, строитель которой ревниво глядел на главный храм Константинополя, очевидно, вспоминая гордое восклицание Юстиниана по окончании строительства «Я победил тебя, Соломон!», и мечтал, что султан Ахмет точно так же скажет: «Я победил тебя, Юстиниан!» И, по преданиям, такая фраза прозвучала.
Мы вошли в пустую мечеть, залитую огнями сотен светильников, свисающих сверху на сверкающем дожде, ливне тросов, и восхитились этим цветным, пестрым от росписей и ковров головокружительным простором, но сердца наши не подвинулись. Здесь побеждал дух соревнования. И как ни лестно для нас было утверждение сербского писателя Милорада Павича, что по окончании строительства мечети ее архитектор, слишком долго проведший за выведыванием тайны Софии, проснулся христианином, увы, это было только игрой воображения. И когда мы потом подошли к великому храму, обесчещенному минаретами, загороженному страшными контрфорсами и пристройками, София взирала со спокойной прямотой и голос ее был чист и ясен. Она была внешне в сто раз тяжелее мечети, но чудо ее оставалось нетронутым. В чужом и бедном платье, оставалась царицей перед сверкающей, но ряженой соперницей.