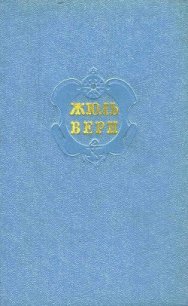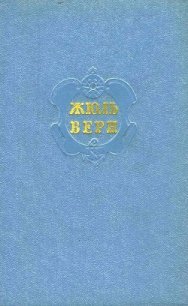Собрание сочинений в 12 т. T. 12 - Верн Жюль Габриэль (книги онлайн .TXT) 📗
Спуск был назначен на шесть часов вечера, корпус трабаколо был уже освобожден от подпорок, и оставалось только вынуть клин, чтобы спустить его на воду.
В ожидании этого события клоуны, акробаты и бродячие музыканты взапуски соревновались в ловкости и талантах, к вящему удовольствию зрителей.
Особенно много народу толпилось вокруг музыкантов; больше всего зарабатывали гусляры. Они распевали гортанными голосами песни, любимые у них на родине, и подыгрывали себе на своих причудливых инструментах. Песни этих бродячих музыкантов стоило послушать.
Гусли, на которых играют зги уличные виртуозы, представляют собой инструмент со струнами, натянутыми на длинный-предлинный гриф; по струнам водят незатейливым смычком. Создается впечатление, что у гусляров мощные голоса, потому что поют они не только грудью, но и горлом.
Один из певцов — здоровенный малый, желтолицый и черноволосый, — держал между коленами инструмент, похожий на исхудавшую виолончель, и всей позой и жестами старался выразить содержание песенки, смысл которой можно передать так:
Берегись, когда поет
Черноглазая Зингара!
Ты не стой, разинув рот, -
Приглядись к ней: как поет?
Опасны чары
Зингары!
Если томный блеск очей
Скрыли длинные ресницы,
Если ты не виден ей, -
Можешь пеньем насладиться.
Берегись, когда поет
Черноглазая Зингара!
Ты не стой, разинув рот, -
Приглядись к ней, как поет?
Опасны чары
Зингары!
Спев первый куплет, певец взял деревянную чашку и обошел слушателей в надежде собрать несколько медяков. Но сбор был, как видно, скудноват, ибо певец вернулся на прежнее место и решил растрогать слушателей вторым куплетом песенки.
Если ж бросит нежный взгляд, -
Сердце ваять твое сумеет,
Не отдаст его назад,
Им навеки завладеет…
Берегись, когда поет
Черноглазая Зингара!
Ты не стой, разинув рот, -
Приглядись к ней, как поет?
Опасны чары
Зингары! [4]
Один из гуляющих, мужчина лет пятидесяти — пятидесяти пяти, слушал цыгана, как и все остальные, но поэтические чары песенки не возымели на него ни малейшего действия и кошелек его так и не раскрылся. Правда, пела не сама Зингара, «взирая на него черными очами», а черномазое страшилище, выступавшее от ее имени. Незнакомец собирался было уже уйти, так ничего и не заплатив, но сопровождавшая его девушка остановила его:
— Папа, у меня нет с собою денег. Дайте, пожалуйста, что-нибудь певцу.
Так гусляр получил пять-шесть крейцеров, которых ему бы не видать, если бы не вмешательство девушки. Ее отец, человек несметно богатый, был вовсе уж не так скуп, чтобы отказать ярмарочному певцу в нескольких грошах; просто он был из числа тех, кого мало трогают людские горести.
Затем отец с дочерью направились, пробираясь сквозь толпу, к другим, не менее шумным балаганам, а гусляры разбрелись по соседним кабачкам, намереваясь хорошенько выпить и закусить. Они и впрямь опорожнили немало бутылок сливянки — весьма крепкой водки, настоенной на сливах, впрочем для цыганской глотки это не более как жиденький сиропчик.
Но надо сказать, что далеко не все уличные артисты, певцы и клоуны пользовались расположением публики. В числе отверженных было двое акробатов, которые тщетно фиглярничали на подмостках, зазывая зрителей.
У входа в их балаган висели пестрые, но уже сильно потертые холсты с изображением диких зверей, грубо намалеванных клеевой краской; там красовались львы, шакалы, гиены, тигры, боа и тому подобные хищники, которым живописец придал весьма причудливые очертания; звери лежали или прыгали на фоне самых невероятных пейзажей. За подмостками находилась маленькая дрена, отгороженная старыми дырявыми холстинами; поэтому не удивительно, что людей, не слишком щепетильных, так и тянуло приложиться глазком к дырочке, а от таких зрителей акробатам было, разумеется, мало проку.
Перед подмостками в землю был воткнут шест с шершавой доской в виде вывески; на ней значилось всего лишь пять слов, грубо нацарапанных углем:
Внешностью своею, да и душевным складом эти два человека так отличались друг от друга, как только могут отличаться двое смертных. Видимо, лишь общая родина сблизила их и связала для совместной житейской борьбы: оба они были провансальцы.
Но откуда же взялись их странные прозвища? Быть может, на их далекой родине эти имена звучали не так причудливо? Не имеют ли они отношения к названиям двух географических пунктов, между которыми расположена Алжирская бухта, а именно к мысу Матифу и косе Пескад? Так оно и есть, и, надо сказать, прозвища были этим бродячим акробатам столь же к лицу, как имя Атланта какому-нибудь ярмарочному борцу-великану.
Мыс Матифу — это огромный выступ, могучий и неприступный, возвышающийся на северо-востоке Алжирской бухты. Он словно бросает вызов бушующей стихии, и к нему вполне применим знаменитый стих:
Громада мощная незыблема в веках.
Именно таков был силач Матифу, этот Геркулес, этот Портос, этот удачливый соперник Омпдрая, Николая Крэта и прочих знаменитых борцов, гордости южных балаганов.
«Пока не увидишь этого исполина собственными глазами, не поверишь, что такие существуют» — такая шла о нем молва. Рост его равнялся шести футам, голова — как пивной котел, плечи — косая сажень, грудь была подобна кузнечному меху, ноги — стволам двенадцатилетнего дерева, руки — шатунам машины, пальцы — клещам. Он олицетворял собою человеческую силу во всем ее великолепии. Люди немало удивились бы, если бы узнали, что ему пошел всего двадцать второй год. Но он и сам точно не знал, сколько ему лет.
У этого существа, — правда, не отличавшегося большим умом, — было доброе сердце и мягкий, покладистый нрав. Он не ведал ни гнева, ни ненависти. Он никому не причинял зла. Когда с ним здоровались, он робко пожимал протянутую руку, боясь раздавить ее в своей могучей лапище. Он был силен, как тигр, но ничего звериного в нем не было. Он слушался своего приятеля с первого слова, повиновался движению его руки, так что можно было подумать, что природа, шутки ради, наградила щуплого фокусника таким огромным сынком.
Коса Пескад, расположенная на западе Алжирской бухты, напротив мыса Матифу, в отличие от последнего представляет собою узкую каменистую полоску земли, протянувшуюся далеко в море. Отсюда и прозвище второго паяца. Это был двадцати летний паренек- маленький, слабый, тощий, весивший раз в восемь меньше своего приятеля. Зато Пескад был ловок, проворен, умен; умел владеть собой как в хороших, так и в дурных обстоятельствах; он был настроен философически, отличался практичностью и выдумкой; в нем было что-то от обезьяны, только без обезьяньей раздражительности. Какие-то нерасторжимые узы связывали его с громадным ласковым толстокожим гигантом, которого он вел сквозь многочисленные превратности, встречающиеся в жизни странствующих паяцев.
Оба они были акробатами и ходили с ярмарки на ярмарку, потешая народ. Мыс Матифу, или просто Матифу, как обычно величали его, выступал на арене в качестве борца, показывал в различных упражнениях свою диковинную силу, гнул руками железные бруски, носил самых толстых зрителей на вытянутых руках и жонглировал своим юным приятелем, как биллиардным шаром. Коса Пескад, или просто Пескад, как его чаще называли, пел, зазывал, фиглярничал, забавлял публику неиссякаемым скоморошеством, поражал ее чудесами эквилибристики, а также карточными фокусами, в которых он был на диво ловок; кроме того, он брался обыграть любого партнера в любой игре, где требуется расчет и сметка.