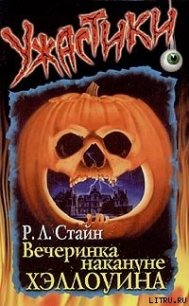Повесть о страннике российском - Штильмарк Роберт Александрович (онлайн книги бесплатно полные .txt) 📗
Брат Спиридон оказался дома. Увидев еще из оконца, что во дворик вошел дворцовый янычар в парадной форме, хозяин домика быстро шагнул из комнат в сени и спокойным, строгим голосом спросил, за какою надобностью явился столь неожиданный гость. Василий уже по дороге обдумывал слова, которые должны были успокоить подозрительность грека и расположить его в пользу посетителя.
— Помоги, брат Спиридон, единоверцу. Прибегаю к твоей помощи, зане для вашего святого дела хоть малую пользу принести готов.
У грека сурово сдвинулись брови, лицо приняло выражение гнева и удивления.
— Кто ты таков и зачем ко мне явился? — спросил он грубо и резко. — Дела мне нет до вас и никакой пользы мне от тебя не надобно. Если обознался, так ступай подобру-поздорову дальше!
— Не гневайся, брат Спиридон! Не изволишь ли вспомнить меня, Христофорова матроса Василия, что потом портовым грузчиком был и с тобою в греческом доме на Фанаре встречался? Я туда поденно работать приходил, припомнил, брат?
— Да, как будто узнаю теперь. Почему на тебе одежда янычарская? Небось мусульманином стал?
— Не гневись, батюшка, затем и пришел… Помоги, родной! Дозволь у тебя переодеться, найди мне, батюшка, какую-нибудь нехитрую справу, а себе — вот это все и оставь!
— Да ты что, ума лишился? Тут одних камней драгоценных и золотого шитья сотни на две будет.
— Глаз у тебя, брат Спиридон, верный, как у гостя торгового. Определил ты цену всей этой справе правильно: две сотни пиастров за нее на базаре любой купец отдаст, не задумается. Так вот, возьми всю эту справу да на пользу вашему святому делу и обрати. А мне — достань тотчас сапоги простые, черные, да одежду греческую. Сколь сил моих хватит — столько я нынче верст должен между Стамбулом и собою оставить.
— Неужто решился, презрев опасность, в отечество свое воротиться?
— Истинно так, брат. Не только мучения презрев, но и самое смерть, если случится, что пойман буду!
— Ну, если так, да будет мир тебе под самым убогим кровом. Дар твой братский приемлю, ибо сделан от чистоты сердечной… Но только… В случае беды сумеешь ли ты…
— Сумею ли смолчать, куда оружие дел? И в мыслях такого опасения не держи: помру — не выдам. Только мне, брат, уже пора переодеваться и идти, покуда погони за мной нету.
— Неверно мыслишь, друг! Беду так наживешь. Ночи темной у меня дождись, перед рассветом и выйдешь. Раздевайся, ложись спать до утра, а я покамест схожу проверю, не заметил ли кто из соседей, что сюда янычара занесло. Коли сие замечено было, то придется тебя в другой дом тихонько отвести, чтобы видели, как янычар от меня ушел.
Целый час грек не возвращался. Ждать было так томительно, что Василий уж и не рад был этой дружеской услуге. Воротившись, брат Спиридон сказал, что Василия никто не видел в этом дворике, но осторожности ради нужно все же дождаться полной темноты. Повечеряв с гостем, грек предложил ему постель. Снимая с себя богатую турецкую одежду, красные сапоги, пояс и чалму, Василий сознавал ясно, что делает это в последний раз: носить ему теперь либо платье христианское, либо… надеть рубаху смертника перед казнью!
Ясное безоблачное утро Петрова дня — 29 июня 1785 года застало Василия Баранщикова уже не в костюме янычара, а в скромной одежде греческого уличного торговца. Вместо широких бархатных шальвар и красных сапог — на ногах простые холщовые штаны, заправленные в черные сапоги яловой кожи. На плечах тонкий суконный кафтан. Бритую голову скрывал греческий колпак. Даже рост Василия словно бы уменьшился в этом неприметном наряде. Крепко обнявшись с братом Спиридоном, Василий перед рассветом вышел на улицу и встретил наступающее утро уже на берегу Босфора.
Перед ним красовался Стамбул. Величавый купол Айи-Софии четко обозначался на фоне легкого утреннего облака. Курились окрестные холмы и долины по берегам Босфора. Сильная роса блестела на каждой травинке, на каждой веточке — день обещал быть жарким. Прозрачный пар поднимался от воды Босфора, она казалась сейчас бесцветно, будто вылинявшей на летнем солнце. На пристани Ихзании Скелези Василий нанял лодку до Семибашенного замка, того самого, куда сажают государственных преступников и где султан держит в заключении послов тех стран, с которыми Турция вступает в войну. От пристани до замка — не близко, семь верст. И лодка нужна большая и крепкая, потому что высится Семибашенный замок не над Босфором, а уже над берегом Пропонтиды, как зовут греки Мраморное море.
Удивительная стояла тишина! Холодное серебро раннего утра медленно озаряло небосвод над Стамбулом. Из утренней дымки все явственнее вставали над зеленью садов очертания древних стен, шпили сотен минаретов, купола мечетей. Все они рдели в пламени разгорающейся зари… Так прощался с Царьградом Василий Баранщиков под мерные всплески весел турецкого лодочника.
Откуда-то сзади донесся меланхолический крик муэдзина:
— Аллах-ху-экбэр! Аллах-ху-экбэр!
Лодочник тотчас же бросил весла, разостлал на носу лодки свой дастархан и совершил намаз. Глядя на него, человек в греческой одежде, небрежно развалясь на лодочной корме, не без злорадства думал, что теперь призывы муэдзина можно пропустить мимо ушей. Призывы эти больше его не касаются!
Когда первый солнечный луч лег на водную ширь, справа медленно проплыл в синем небе купол Малой Айи-Софии. Еще через полчаса миновали древнюю башню Велизария, окруженную вековыми дубами, платанами и буками. Эта седая башня помнит еще времена византийского императора Юстиниана, чьим полководцем был Велизарий.
И вот, наконец, предместье Едикуле с Семибашенным замком! Василий Баранщиков, совершивший лишь вчера переправу из Европы в Азию, нынче вновь выступил из лодки на европейскую землю в Царьграде.
Улица Псаматия приводит его к воротам Едикуле в древней зубчатой стене, опоясывающей весь город. В открытых воротах навстречу Василию попались два янычара. Голоса их гулко прозвучали под каменным сводом привратной башни. Разминувшись с ними, Василий вышел из ворот и, не оглядываясь на «второй Рим», размеренно зашагал по знойной дороге.
Свадьба в Агиос Стефанос
Оставив за собой царьградские ворота, Василий Баранщиков, переодетый в греческое платье, сам подивился, что не испытывает особой боязни в столь опасных обстоятельствах. Им овладело чувство спокойной уверенности в себе. Снова он становился хозяином своей трудной судьбы, а не щепкой в водовороте событий. Исчезло у Василия томящее сознание одиночества на чужбине — теперь ему как бы незримо сопутствовали друзья: Баранщиков про себя твердил имена и адреса, сообщенные ему на прощание братом Спиридоном. Первый адрес гласил: портовый поселок Агиос Стефанос, что на берегу Пропонтиды, дом старосты Панайота Зуриди. Напутствуя беглеца, брат Спиридон не велел записывать имена тех, у кого Василий мог искать приюта и помощи в дороге.
В дороге! Да, впереди опять дорога, и какая долгая! Невольно пришла на память старая сказка про то, как Иванушка за тридевять земель ходил свою Марью-царевну искать. Сколько их, чужих-то земель, простирается сейчас перед странником российским! Попробуй сочти! Земля турецкая и болгарская, валашская и молдавская, рекомые Румелией, [20] земля польская и украинская… Хребты Балканские и Карпатские, перевалы горные, тропы лесные, разбойничьи… А там, за горами, за долами, раскинулась отеческая земля, невидимая отселе даже орлиному оку!..
Беглец уже потерял из виду башни Стамбула. Сделалось жарко. На пыльных придорожных травах высохла роса, цикады зазвенели так, будто само знойное марево рождало этот немолчный, дрожащий в воздухе звук. Остатки тумана уходили из долин, превращаясь в пушистые тучки; утренний бриз осторожно переносил их за гряду лесистых предгорий. Свежеумытое небо и тихое нынче море стали одинаково голубыми, как на венецианских эмалях, виденные Баранщиковым в соборе Святого Марка. Вершины кипарисов, врезанные в эту лазурную эмаль, казались не зелеными, а иссиня-черными.
20
Румелия — прежнее название европейских владений Османской империи. Теперь Румелией иногда называют европейскую часть Турции.