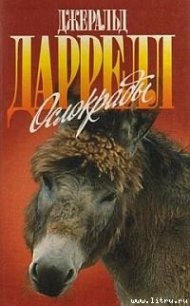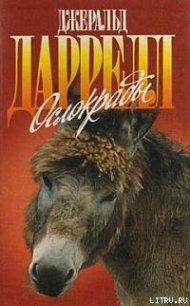Три билета до Эдвенчер - Даррелл Джеральд (первая книга .txt) 📗
Самка, которую мы поймали, должно быть, лишь недавно уложила свои икринки: крышки карманов еще не успели затвердеть. Несколько недель спустя кожа на ее спине стала еще более ноздреватой и набухшей, словно пораженная проказой, а карманы еще более оттопыренными. Когда детеныши достаточно подросли, чтобы покинуть спину матери, мы плыли на пароходе где-то посередине Атлантики. Лучшего момента они не могли и выбрать. Наши жабы сидели в банках из-под керосина, которые, как и весь мой зверинец, стояли в пароходном трюме. Первое указание на то, что среди амфибий назревает счастливое событие, я заметил однажды утром, спустившись в трюм сменить воду в банках. Самка лежала, распластавшись на поверхности воды, в своей обычной позе, тяжелая и раздутая, выглядя так – все пипы выглядят так, отдыхая, – будто она умерла несколько недель назад и уже частично разложилась. Я внимательно ее оглядел – я все время так делал, чтобы увериться, что она и вправду не умерла, – как вдруг заметил какое-то копошение у нее на спине. Присмотревшись, я увидел крошечную лапу, она торчала прямо из спины жабы и слабо колыхалась, из чего я заключил, что наконец-то настал великий момент. Я пересадил роженицу, которая не подавала признаков жизни, в отдельную жестянку и поставил жестянку так, чтобы во время работы она постоянно была у меня перед глазами. Я был очень взволнован и решил не пропустить ни единой минуты этих необычайных родов.
Все утро я то и дело заглядывал в жестянку и отмечал величайшее оживление в карманах: крошечные руки и ноги высовывались из них под самыми невероятными углами, неуверенно помахивали в воздухе и поспешно прятались обратно. Раз из одного кармана показались голова и лапы детеныша, и впечатление было такое, будто кто-то высовывается из люка. Когда я наклонил жестянку, чтобы получше разглядеть его, жабеныш оробел и, отчаянно заработав лапами, снова упрятался в карман. Жаба, казалось, совершенно не замечала ерзанья, дрыганья и толкотни, разыгравшихся на ее пространной спине. Она лежала на воде и была как мертвая.
Лишь ночью того же дня малютки набрались сил, чтобы покинуть мать, и я бы пропустил этот необыкновенный исход, если бы не заглянул случайно в банку около полуночи. Я только что управился с последними делами – раздал броненосцам грелки, так как похолодание эти зверьки чувствовали острее, чем все остальные животные. И вот, перед тем как потушить свет и вернуться к себе в каюту, я заглянул в наше родильное отделение и с удивлением увидел крошечную копию мамаши, плавающую рядом с ней на поверхности воды. По всей видимости, великий момент родов настал. Хотя последние два часа я только о том и думал, как бы дорваться до койки и завалиться спать, при виде этой странной уродливой маленькой амфибии сонливость с меня как рукой сняло. Я протащил через весь трюм дуговой фонарь, повесил его над жестянкой, присел и стал наблюдать.
Уже до этого мне приходилось быть свидетелем величайшего множества самых различных рождений. Я видел, как с живостью ртути распадается надвое амеба, видел кур, с кажущейся легкостью осуществляющих процесс яйцекладки, видел долгие родовые муки коровы и быстрое, изящное рождение олененка, беспечно-небрежное икрометание рыб и полное драматизма, невероятно "человеческое" рождение детеныша обезьяны. Все это волновало и захватывало меня. Есть в природе и множество других явлений, порой вполне заурядных, на которые я не могу смотреть без трепета благоговения. Это превращение головастика в полулягушку, а затем в лягушку; фантастическое зрелище паука, когда он выходит из собственной шкурки и удаляется восвояси, оставляя на земле прозрачную, микроскопически верную копию самого себя, недолговечную, как пепел, которому суждено быть развеянным ветром; превращение аляповатой и уродливой куколки, когда она лопается, высвобождая чудесно расцвеченную бабочку или мотылька, – преображение, равного которому не сыщешь ни в одной сказке. Но лишь в редких случаях увиденное поглощало и изумляло меня так, как в ту ночь посередине Атлантики, когда появлялись на свет детеныши пипы.
Сначала оживление в банке ограничивалось лишь маханием рук и ног. Решив, что младенцам мешает резкий свет фонаря, я затенил его, и это послужило сигналом к форсированию событий. В одном из карманов я увидел его крошечного обитателя; он отчаянно барахтался и штопорообразно извивался, так что вначале в отверстии показались его лапы, а потом голова. После этого он на некоторое время затих, а отдохнув, принялся окончательно проталкивать через отверстие голову и плечи. Затем он снова передохнул: выдираться из стеснявшей его толстой, эластичной кожи мамаши было явно нелегко. Потом он завихлялся, словно рыба, мотая головой из стороны в сторону, и его тело стало медленно выбираться из кармана наподобие пробки, нехотя вылезающей из горлышка бутылки под давлением газа, – и вот уже он лежит в изнеможении на спине мамаши, лишь одной ногой увязая в ячейке, так долго служившей ему колыбелью. Затем он прополз по шероховатой, изрытой кратерами спине матери, скользнул в воду и замер на ее поверхности. Еще одна крохотная жизнь вступила во вселенную. Он и его брат, плававший рядом с ним, свободно уместились бы на шестипенсовике, но при всем том они были самые настоящие маленькие пипы и с первой же минуты, как попали в воду, умели плавать и нырять с поразительной энергией и быстротой.
Я уже пронаблюдал за появлением на свет четырех пип, когда ко мне присоединились два матроса экипажа. Возвращаясь со смены, они заметили огонь в трюме и спустились проверить, не случилось ли чего неладного. Вид человека, сидящего на корточках перед жестянкой из-под керосина в два часа ночи, весьма их заинтересовал. Я коротко объяснил, что такое пипы, как они брачуются и мечут икру и что сейчас я как раз наблюдаю последний акт драмы, разыгрывающейся в недрах керосиновой жестянки. Матросы заглянули в банку. В этот самый момент еще один детеныш начал выкарабкиваться на свет божий, и они остались посмотреть. Вскоре явились еще три матроса – выяснить, почему застряли в трюме их дружки, и на них тут же зашикали. Им шепотом разъяснили, что тут происходит, и кружок наблюдателей пополнился еще на три человека.
Теперь мое внимание было разделено между животными и людьми: те и другие представлялись мне в равной мере интересными. Маленькие плоские земноводные в банке продирались сквозь узкие амбразуры в материнской коже, всецело поглощенные своей микроскопической борьбой за существование; вокруг сидели самые типичные матросы, ведущие не лишенную суровостей жизнь, – как можно предполагать, люди отнюдь не сентиментального склада, предварявшие каждую свою фразу неудобопечатаемым присловьем и чьи интересы в жизни (судя по их разговорам) ограничивались исключительно выпивкой, азартными играми и женщинами. И тем не менее эти огрубелые, отнюдь не нежные представители рода человеческого сидели вокруг банки из-под керосина в два часа ночи в холодном, неприютном трюме и с недоверчивым удивлением свидетельствовали начало жизни маленьких жабят, время от времени обмениваясь замечаниями приглушенным шепотом, словно все происходило в церкви. Каких-нибудь полчаса назад они и знать не знали, что есть на свете такая штука – пипа, а теперь переживали за маленьких жабят, словно за собственных детей. Озабоченно следили они за тем, как малыши выворачиваются в своих карманах, прежде чем начать выбираться на волю, а потом напряженно, с нетерпеливым ожиданием смотрели, как они тужатся и извиваются, прокладывая себе путь наружу и время от времени останавливаясь передохнуть. Один детеныш, слабее всех остальных, выбирался на волю чудовищно долго, и матросы не на шутку... взволновались, а один из них даже жалостно спросил меня, нельзя ли помочь ему спичкой. Я ответил, что лапы жабенка тонки, как хлопковые волокна, а тело хрупко, как мыльный пузырь, и при всякой попытке помочь ему можно жестоко его покалечить. Когда отставший выкарабкался наконец из кармана, раздался всеобщий вздох облегчения, а матрос, предлагавший помочь жабенку, повернулся ко мне и с гордостью сказал: