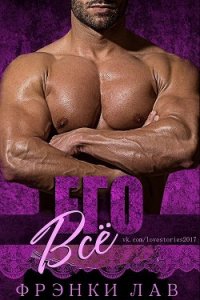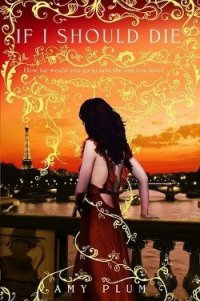Hollywood на Хане (СИ) - Рыбак Ян (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
— Я дам тебе рацию, скажи ему это сам!.. — Лихорадочный румянец пробивается сквозь археологические слои солнцезащитного крема на Валериных скулах…
— Дай, дай мне рацию!.. Я скажу ему ВСЁ, что я думаю!.. — дай мне рацию!..
— Ян, к чему эти разговоры?.. Это моя работа, мой долг: я должен отснять все эпизоды, которые нужны Гоше с Лёшей… — настаивает Валера, и я чувствую, как его дисциплинированная душа изнемогает от одной только мысли, что съёмочное задание, поступившее в три часа ночи из базового лагеря в пещеру на седловине, может остаться невыполненным…
— Ага-а-а! — продолжаю злобствовать я — как на вершину идти, так это «плохая погода», а как тащиться на гребень для дурацких имитаций, так «Ян, давай, давай!..»
Валера обиженно замолкает, и в наступившей тишине я начинаю потихоньку остывать, всё ещё потрескивая… Саша молча восседает на своём ледяном «топчане» и теребит бороду по сложившемуся у нас обыкновению…
В полтретьего ночи он проверил погоду и вынес вердикт: «в такую погоду на гору не ходят». Посовещавшись на средних и повышенных тонах, мы договорились встать в пять, с рассветом, и проверить погоду ещё раз. Выход в шесть утра всё ещё оставлял нам шанс взойти на вершину. Валера связался с базовым и доложил обстановку руководящему дуэту — режиссёру и продюсеру. Тут-то и выяснилось, что выход из пещеры в лучах рассвета решительно не вписывается в Гошину художественную концепцию. «Вы можете идти, когда угодно» — сказал он — «можете вообще никуда не идти, но вы должны отснять ночной выход на восхождение!».
Я к этому моменту (второй день отсидки в унылой берлоге…) был взрывоопаснее, чем пояс шахида. Мысль о каких-то там пошлых имитациях была мне противна и унизительна, она оскорбляла самую суть моей тоскующей восходительской души… Какая пошлость: выйти якобы на восхождение, «мужественно» тропить по колено в снегу, изображая непреклонную решимость, чтобы через пять минут, по команде «Всё! Снято!», юркнуть обратно в пещеру… Бр… Ни за что! В гробу я видел этот кибениматограф, эту хренову «фабрику грёз»!..
Не хочу и не буду!.. Я предпочитаю использовать оставшиеся пару часов на отдых перед всё ещё возможным восхождением, вместо того чтобы участвовать в этих несуразных игрищах.
Валера сидит печальный и растерянный, приютив на коленях бесполезную камеру…
— На гребень я не полезу, — даже не думай, но выход из пещеры и начало движения вверх по склону мы, пожалуй, можем отснять…
Валера вскакивает и, не говоря ни слова, начинает готовить камеру к съёмке…
Спустя десять минут, чертыхаясь и проклиная килограммы сухой ледяной пыли мгновенно проникающей в малейшие прорехи в моём пуховом облачении, я выкатываюсь в колючий непроглядный мрак…
В какой именно степени мне важно было взойти на эту гору, я понял лишь утром, упаковывая рюкзак для спуска. Меня душили ярость и обида, и я никак не мог поверить, что всё кончено. Я знаю, что эта гора, этот безмозглый и безжалостный истукан, — всего лишь смёрзшаяся груда камней, нечто куда более примитивное, чем последняя амёба в придорожной луже, и, в то же время, я не могу не относиться к ней, как к живому, надменному и мстительному божеству. Я возненавидел её, порвал с ней окончательно, я никогда в жизни ничего не попрошу у неё, и я не хочу больше видеть этого молоха, эту белозубую морозильную камеру, в которую каждый год отправляется очередная порция человеческого мяса…
И я знаю, что у неё есть ещё целый день, на то чтобы сполна рассчитаться со мной за эти слова…
Мы спускаемся со второго лагеря — я и Валера. Гора хорошо выспалась в тёплых утренних туманах, потянулась, зевнула и, вспомнив давешнюю обиду, метнулась нам вослед…
Над черными ульями скал заметались снежные пчёлы, загудели, закусали щеку, ветер усиливался, — он дул ровно и мощно, он выглаживал гибкой ладонью место предстоящей экзекуции. Исчезло небо, отвернулось, обратив к нам серый в проплешинах затылок, словно говоря нам: «моё дело — сторона, это ваши с нею разборки…»
Мы скользили вниз по гребню в струях пыли цвета потухшего серебра, увёртывались от оплеух ветра, а на перестёжках тоскующее железо покусывало нам кончики пальцев. Второй лагерь был снят и упакован в рюкзаки, потяжелевшие втрое, и малейшее проскальзывание или неловкий шаг могли обернуться стремительным падением с предсказуемыми последствиями: скольжение вдоль глазурованной льдом направляющей, узел или станция, удар, глухой хлопок лопнувшей усталой верёвки и долгий полёт болидом снежной пыли… Врывающийся в разодранные криком лёгкие радостный космический воздух, несущийся навстречу астероид скал, проглоченная от удара буква О, тишина… Конец фильма.
Ветер выдувает стылые верёвки за гребень, и каждую такую верёвку я вытягиваю, как рыбак сети, полные мороженной рыбы, — со стонами и матерным рычанием. Иногда такая верёвка повисает за снежным карнизом длинной вибрирующей на ветру дугой, под которой развеваются снежные гривы. Местами верёвки заключены в прозрачный чехол, который лопается на изгибах и брызгает ледяной крошкой. Когда запотевают лыжные очки, и мгла удваивается, я останавливаюсь и приподнимаю нижнюю кромку, позволяя настырному ветру нырнуть в образовавшийся зазор и выдуть пары.
Вырвав из-под снега или вытянув из-за карниза очередную верёвку, я продолжаю спуск на ломких коленях, — дрожа от напряжения, сжимая скользкий канат до судорог в ладонях… Похоже, ещё долго я буду просыпаться со сжатым кулаком, из которого неумолимо ускользает кольчатый полоз верёвки…
Одеяло мглы становится всё плотнее, ветер подтыкает его со всех сторон — торопливо, нервно. Я чувствую, как нечто тяжелое, давящее сгущается вокруг меня, и это нечто заставляет меня, стиснув зубы, ползти вниз по гребню — упорно, не останавливаясь ни на минуту до тех пор, пока силы не покидают меня, и я, креня рюкзак, не заваливаюсь в снег на очередной станции.
Сижу, дыша… Равнодушно отмечаю паскудную суету ветра, пытающегося заровнять меня, превратить в плоский могильный холмик. Встаю, вырываю на колено рюкзак, подныриваю плечом в лямку, и, выбрав из пучка свисающих со станции разноцветных сухожилий наименее истёртое, продолжаю свой муторный бесконечный спуск.
Непрерывность восприятия нарушена, и я воспринимаю окружающее, как смену контрастных кадров, взрывающих мозг: сливочная волна карниза, торжествующий снежный флаг, выброшенный гребнем, вставшая на дыбы верёвка, горизонтальные вибрирующие струи снега, вырезанная из чёрного картона фигурка Валеры… Раскадровка реальности…
На скальном поясе траверсирую чёрные лобики, покрытые коркой льда, словно на них выступила и замёрзла холодная испарина. Прежде чем сделать шаг, сметаю перчаткой сухие холмики снега, проясняя зацепы для заскорузлых негнущихся пальцев. Думаю о том, что, если сорвусь, и перила выдержат, с рюкзаком мне обратно уже не выбраться, но чудом не срываюсь и, добравшись до станции, жду Валеру.
Валера выныривает из кружевной снежной круговерти. Он смотрится столь эффектно на вертикальных запорошенных скалах, что я нахожу в себе силы достать из рюкзака фотоаппарат и, затаив нетерпеливое дыхание, сделать несколько кадров. В горах, на маршруте редко кто находит в себе силы и желание снимать в непогоду, и потому горы почти всегда предстают перед неискушенным зрителем, как разукрашенный лазуритом и амальгамой готический торт на белоснежном подносе снегов, хотя, столь же часто, они представляют из себя сияющее ничто, сиплую сухую сечку или воющее нутро стиральной машины.
Первый лагерь присыпан тяжелым мокрым снегом, в котором чернеют снулыми жабками немногочисленные палатки. В этом оазисе безопасности хочется задержаться подольше, хочется отдыха и горячего чая, но снег продолжает падать, укладываясь на склонах в смертоносные пласты, готовые соскользнуть в любую минуту… Надо бежать вниз, пока не поздно. Если ещё не поздно…
Валера говорит по рации с «дядей Мухой» — начальником базового лагеря, о котором так и не сложилось у меня рассказать, хоть он и заслуживает отдельного, самостоятельного рассказа.