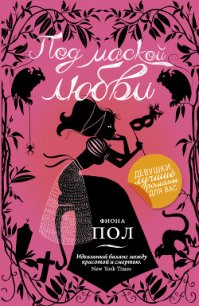Венеция. Под кожей города любви - Бидиша (книга бесплатный формат .txt, .fb2) 📗
— Я ненавижу собственный голос, записанный на автоответчик, — неожиданно обращается ко мне Эммануэле.
— И я тоже. Мне он всегда кажется слишком гнусавым, — отвечаю я.
— Вот-вот! Но ведь это не так?
— Нет! У вас очень красивый голос, — галантно заверяю я. В общем-то это правда.
Когда вегетарианка Катерина затевает второй раунд весьма и весьма длительных переговоров с официантом насчет того, что еще ей могут предложить, Эммануэле, склонившись к моему уху, ворчит:
— Не люблю вегетарианцев. Они никогда не могут толком объяснить причин своего отношения к пище, если спросишь напрямую.
Я медленно отвечаю по-английски:
— Когда я говорю с вегетарианцами, они начинают спрашивать: а ты могла бы убить корову голыми руками? Я отвечаю: нет. Но это означает только то, что я брезглива, ничего более. Я ведь люблю одежду из ткани, но не хочу сама ткать. Разве это лицемерие?
Эммануэле с жаром кивает в знак согласия:
— Мне не нравятся крайности. Нам всем приходится жить в обществе и сосуществовать друг с другом…
Я ничего не отвечаю. Ага, думаю я, вот он ключик к Эммануэле, к его сущности. Мысленно заношу эти сведения в свою базу данных. Помолчав немного, я произношу:
— Часто именно людям, которые так уж заботятся о животных, совершенно наплевать на других людей. Попробуйте заговорить о насилии над женщинами или о пропасти, разделяющей богатых и бедных, они заскучают, но, боже мой, только заведите разговор о несчастных маленьких кроликах со сломанными ушками — и вот увидите, они начнут плакать… А почему я не должна есть бифштекс? В конце концов, это ведь только корова!
— Так уж устроен мир, — отвечает Эммануэле по-английски. — Люди едят животных… — Перейдя на итальянский, он добавляет: — Коров едва ли можно считать исчезающим видом.
— Точно! Мы ведь не едим львов.
— Вот именно! — Мы переглядываемся и ехидно улыбаемся. — Хотя я бы не отказался попробовать, — продолжает Эммануэле. — Знаешь, эти любители животных напоминают мне тех, кто раз в месяц бегает на почту и перечисляет по пять евро для каких-то детей на другом конце света. Если тебе так уж небезразличны бедные, посмотри по сторонам и помоги тем, кто рядом и нуждается в помощи. Если ты врач и говоришь, что тебе не все равно, иди и лечи. Служи своими… capacità? — затрудняется он.
— Своими способностями, тем, что умеешь.
— Точно. Отдай часть себя.
— Но это крайность, — подсмеиваюсь я над ним.
— Да? Возможно, но…
— Вы говорите: если ты врач, то иди и…
— Я имел в виду — просто дай что-то лично свое, от себя, своей жизни.
— Ага. Если ты сделал минимум и больше к этому в жизни не возвращался, особого повода для гордости нет. Хотя сделать хотя бы минимум все же лучше, чем не делать вообще ничего. Вы много делаете? Я — ничего.
— Я тоже ничего!
Объединенные этим признанием, мы возвращаемся к общему разговору. Обсуждается предстоящий театральный сезон. Больше всего в городе говорят о серии постановок по пьесам Сары Кейн [22].
— Я бы хотел посмотреть эти спектакли, — шепчет мне Эммануэле.
— Я не люблю театр. Он меня подавляет. И я не верю в условность, не могу это преодолеть. Девяносто девять процентов актеров в обычной жизни совершенно лишены обаяния, — сетую я.
— А я еще люблю аудиокниги…
— Нет! Это ужасно.
— Почему? Немного Данте…
— О да! Немного Данте — это вполне… — сдаюсь я, и невысказанная мысль повисает в воздухе: ты, я и немного Данте…
Остальные говорят о ботоксе, подсмеиваются над возрастными изменениями, хотя, на мой взгляд, все дамы за столом очень ухоженные, выглядят изумительно, особенно Тициана. Ее мама (никак не могу запомнить ее имя, но все равно было бы неприлично обращаться к ней просто по имени) рассказывает, что у нее на лице выступили пигментные пятна и она перепробовала все кремы, какие только есть в продаже. В конце концов ей помогло обычное оливковое масло.
— Когда я сказала доктору, он поднял меня на смех.
— Врачи ничего не знают, — говорю я.
— Ровно ничего.
— Могу я узнать, синьора, как долго вы пользовались маслом, — церемонно спрашивает дама с кукольным личиком, как я понимаю, мать Эммануэле. — У меня есть два маленьких возрастных пятнышка, здесь и вот здесь.
— Четыре года, — следует сухой ответ.
— Каждый день?
— Каждый вечер. За исключением случаев, когда я ждала в гости мужчину. — Мать Тицианы жестикулирует, как бы покрывая маслом лицо, а потом елейным голоском зовет: — Любовь моя, я готова!
Мы все громко хохочем.
После этого Джина, изящная интеллигентная женщина, обращает внимание на шикарное кольцо пожилой синьоры — массивное, золотое, как бы переплетенное. Она просит посмотреть и замечает:
— Ах, у вас удивительно мягкая и нежная кожа!
Катерина тоже берет мать Тицианы за руку и подтверждает это. Та восседает как королева, пренебрежительно держа руку на отлете:
— Кто-нибудь еще хочет удостоиться чести дотронуться до моей руки? Другой возможности у вас не будет.
Я смеюсь, а она весело подмигивает мне одним глазом. Мне давно не было так хорошо. Ловлю это изумительное ощущение и запихиваю его в нагрудный карман.
Затем всеобщее внимание по инициативе тощей вегетарианки Катерины переключается на меня. Новая порция вопросов: впервые ли я так долго живу вдали от дома? скучаю ли по родителям? должно быть, я часто болтаю с мамочкой по телефону? сколько мне лет? И конечно, что у меня за имя?
— Имя у меня индийское, — отвечаю я.
— Оно прелестно, — произносит Джина, манера говорить у нее нерешительная, робкая. — Самое красивое имя из всех, какие я слышала. Словно имя богини…
Разговор продолжается, но я теряю нить.
— Ты понимаешь, что они говорят? — спрашивает Эммануэле.
— Я не все могу разобрать.
— Это потому, что здесь очень шумно, — тактично комментирует он.
Джина повторяет более отчетливо:
— Мы говорили о том, как начинаются книги. Лично мне нравится, когда роман начинается с обычной сцены, а потом постепенно всплывают подробности, одно связывается с другим, и ты понимаешь, что все это важно.
— Мне тоже это нравится, — охотно поддерживаю я. — Мне нравятся интересные сюжеты.
— Несколько часов в этой компании, и ты услышишь столько сюжетов, что не будешь знать, что с ними делать, — замечает Тициана.
Все это время продолжается трапеза. Крошечные порции одних блюд сменяются крошечными порциями других. Это не новомодные малокалорийные блюда и не изыски кулинарного искусства — просто маленькие порции. Да, все вкусно — но все то же самое. Лукреция готовит вкуснее, да и быстрее, кстати сказать.
Я объявила вначале, что у меня аллергия на алкоголь, и теперь спохватываюсь, что допиваю второй бокал просекко… а может, третий. Как это произошло?
Появляется капля горячего золотистого суфле, украшенного расплавленным черным шоколадом. На миг мы все благоговейно замолкаем. Разговор заходит о растительности на лице.
— Тебе нравятся усатые мужчины? — спрашивает меня Джина.
— Нет! — восклицаю я с широкой улыбкой. — Только гладкое!
Эммануэле полушутя дергает себя за густой ус.
— Когда он вернулся из Гватемалы, у него была длинная борода и усы, — говорит Джина.
— Ладно, в воскресенье сбрею и усы, — обещает Эммануэле под общий смех.
Мы пьем кофе.
— Ну что, не жалеешь, что мы выбрали рыбу? — спрашивают меня.
— Нет, это было великолепно. Вообще-то я очень люблю мясо, но сегодня еда была превосходна. Мне очень понравилось.
— Любишь мясо? Тогда вы единомышленники, Эммануэле тоже его обожает, — говорит Джина.
Все опять смеются. Мы с Эммануэле слишком смущены, чтобы смотреть друг на друга.
Я заметила, что Джина за весь вечер ничего не ела. Ее действия таковы: положить себе совсем чуточку и, закурив сигарету, передать блюдо дальше по кругу. Когда блюдо доходит до меня, я тоже беру немного, но Эммануэле говорит: