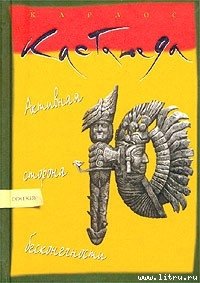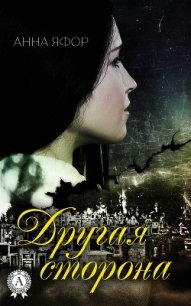Лед и пламень - Папанин Иван Дмитриевич (бесплатные онлайн книги читаем полные txt) 📗
Мордобой на флоте был официально отменён. Но боцманы, старшины нет-нет да и раздавали зуботычины. Мне, правда, ни одной не досталось, я старался службу нести так, чтобы придраться было, не к чему.
Служба — в одном её аспекте — очень напоминала мне нашу школу. Больше всего урок божий. Батюшка нас не спрашивал, верим ли мы в бога, — это для него само собой подразумевалось, — он был озабочен больше тем, как вбить в нас церковные премудрости.
Учёба матросов на флоте была построена по точно такому же принципу. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Зубри и зубри, думать не смей. Ну, например, враги бывают внешние — германцы и внутренние — поляки, жиды и студенты: от них смута.
Дело доходило до курьёзов. Был в полуэкипаже инженер — ярый монархист. Однажды он особенно разошёлся, нападая на врагов внутренних. Кто-то из матросов возьми и спроси:
— Вы, ваше благородие, какой институт изволили кончить? Тот с гордостью:
— Петербургский университет!
— Стало быть, студентом были? Инженер вспыхнул: понял подковырку.
Бывалые матросы диву давались: вольные разговоры пошли! Ещё лет пять-шесть назад за такие речи в карцер попадали. Но теперь было совсем другое время. Шли месяцы, выстраивались в годы, несли стремительные перемены. Близилась революция.
В конце февраля семнадцатого года мы заметили, как заволновались, забегали офицеры. Нам они ничего не говорили. Но мы дознались: царя сбросили! Весть эту наш брат рядовой встретил по-разному. Одни радовались, другие тревожились. «Какой ни есть, а царь. Не будет царя — не быть и порядку». Полетело за борт слово «господин», его постепенно вытесняло непривычное «гражданин».
«Гражданин»… Слово требовало к нижним чинам обращаться на «вы». Мы-то эту разницу сразу усвоили, а кое-кому из офицеров она далась нелегко. Хочется зуботычину матросу дать, а надо называть его на «вы». На «губу» бы посадил — требуется согласие судового комитета, которые появились после Февральской революции.
Незыблемый прежде распорядок трещал по всем швам. Прежней исполнительности требовали только от кока. «Вольницей» мы широко пользовались. Польза от этого была — мы шли на митинги. Я, как и другие, хотел понять, что же происходит, что же делается в России. Найти своё место в этом яростно спорившем мире.
Исподволь в душе шла переоценка ценностей. То, что подспудно накапливалось после «Очакова», что было результатом наблюдений, проявилось отчётливо: для меня авторитетом был каждый, кто выступал против царя. Но некоторые ораторы, враги царя, порой грызлись меж собой так, словно были готовы съесть друг друга. И как я мог не поверить одному из них — бледному, с больными глазами, надрывно кашлявшему во время выступления. Он говорил:
— Граждане свободной России! Я поздравляю вас с тем, что могу к вам так обратиться. Настал час долгожданной свободы, когда мы берём в свои руки судьбу Отечества. Войну затеял и развязал царизм. Но можем ли мы допустить, чтобы великая Россия оказалась на коленях перед врагом? Разве есть среди вас люди, которые готовы встать на колени перед солдатами кайзера? Так могут думать только изменники! Война до победного конца!…
Мог ли я не верить этому человеку, если он только-только вернулся с царской каторги?! По убеждениям он был социалист-революционер. Значит, он за социализм и революцию — хороший человек!
Выступал другой — меньшевик, тоже только-только вернулся из тюрьмы. Он тоже за войну до победного конца. И громит большевиков.
Потом на трибуне появляется анархист, весь увешанный гранатами. Он против всех, против всего. А за что — непонятно. И тоже с царской каторги. Попробуй разберись…
У меня в голове был ералаш — так мало я понимал… Я так и не узнал имени человека, которого мне надо всю жизнь благодарить за вовремя сказанное слово. На одном из митингов стоял рядом со мной мужчина лет тридцати, в косоворотке, чистых, хотя и застиранных брюках, с хрипотцой в голосе. Он взглянул на меня разок, другой, видимо, заметил моё недоумение и спросил:
— Закурим, земляк?
Было в его голосе что-то располагающее.
— Закурим, — сказал я со вздохом.
— Тяжело? — спросил он участливо. Я его понял:
— Тяжело.
— А ты вникни. Ораторов — куча, а кого громят сильнее всего?
Я ответил не сразу:
— Похоже, большевиков.
— Верно, хлопче, схватил ситуацию. А вот как ты думаешь, почему и эсеры, и меньшевики, и прочие оборонцы о большевиках говорят больше, чем об императоре Вильгельме?
— Слух идёт, они все немецкие шпионы, их главарь Ленин был привезён в Россию в запломбированном вагоне.
Мой собеседник усмехнулся:
— И ты туда же… Давай, брат, подумаем. Ты только факты учти. Так сказать, мотай на ус. Значит, говоришь, Ленина в запломбированном вагоне привезли? А знаешь ли ты, что старший брат Ленина Александр в 1887 году поднял руку на царя и был повешен? И что Ленин был в царской ссылке? Что его труды в Германии жгут по приказу Вильгельма? Насчёт шпиона и запломбированного вагона меньшевики и эсеры выдумали, авось какой дурак и поверит. Ты, говоришь, всем веришь, кто против царя шёл? Помозгуй. Эсерик выступал, ему три года каторги дали за то, что в градоначальника стрелял. А большевику — он ни в кого не стрелял — пятнадцать лет каторги. Вот и посуди, кто царю страшнее был. Вот и смекай, почему вся эта братия на большевиков обрушивается. Если котелок варит— поймёшь…
В самом деле, чудно получалось — большевики многим ораторам казались злом несравненно большим, чем войска Вильгельма. В лютой ненависти к большевикам объединились кадеты, эсеры, меньшевики, монархисты. А ведь лозунг у большевиков был самый простой, доходчивый: «Власть — народу, землю — крестьянам».
На митингах все чаще и чаще звучала фамилия Ленина, повторялись его слова. Ленинская правда была настолько понятной, доходчивой, что народные массы — и я с ними — не могли её не принять.
Процесс моего «обольшевичивания» шёл постепенно, необратимо. И хотя я в партии с 1919 года, мыслями, сердцем я с нею с лета семнадцатого года.
С первых дней Октября я вступил в ряды красногвардейцев, с головой ушёл в революционную работу.
Советская власть утвердилась в Крыму позже, чем в центральных районах России. Причин тому немало. Сказывалось в первую очередь то, что Крым не был промышленным краем, рабочие были главным образом в Керчи и Севастополе. В других же городах ипоселках на полукустарных предприятиях рабочих было совсем немного, и серьёзной революционной силы они не представляли.
В Крыму селились отставные офицеры, чиновники, вышедшие на пенсию. В деревнях же было засилье кулаков. Национальная рознь — а в Крыму обитали люди около тридцати национальностей — была достаточно сильной.
На первых порах после Февральской революции меньшевикам и эсерам удалось захватить в свои руки руководство Советами рабочих и солдатских депутатов, профсоюзами. Не случайно Я. М. Свердлов в организационном отчёте ЦК VI съезду партии отметил, говоря о положении в Крыму: «В этом районе сильнее, чем где бы то ни было, оборонческое течение и товарищи блокируются с оборонцами».
Центральный комитет партии, учитывая сложившуюся обстановку, направил в Крым группу опытных большевиков. Приехали Ю. П. Гавен, Ж. А. Миллер, Н. А. Пожаров, Н. И. Островская и другие. 15 октября 1917 года открылась первая конференция большевиков Таврической губернии. Вторая была проведена в ноябре.
К этому времени большевистская организация Севастополя насчитывала 350 человек.
А эсеров и меньшевиков хоть отбавляй. В таких сложных условиях пришлось работать большевистской партии. Я. М. Свердлов поставил перед большевиками Крыма задачу исторической важности: превратить Севастополь в Кронштадт юга. Большевики не жалели сил, решая её. Большое влияние на матросские массы оказали агитаторы-балтийцы, которые в семнадцатом году приезжали к нам трижды.
Как-то случился конфликт на тральщике. Науськанные меньшевистскими подпевалами, матросы чуть не выбросили за борт моего друга Васю Чистякова: