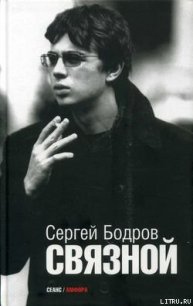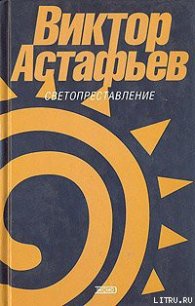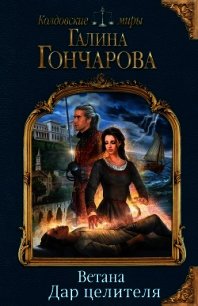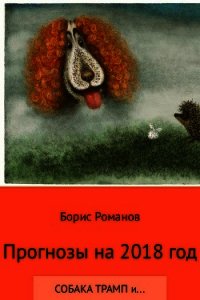Время колоть лед - Хаматова Чулпан (серия книг .TXT) 📗
Мы сидели на земле у задней двери безымянной мемфисской траттории. Пили вино по очереди из бутылки и курили. На безмятежном небе Сицилии одна за другой загорались веселые и бесстрашные звезды. Мы ждали подружку Згарби и вареного осьминога. И рассказывали друг другу свою жизнь.
“Однажды это станет началом какой-то книги”, – предположила я.
“Ты знаешь, – после длинной паузы ответила Чулпан, – в это никто никогда не поверит. Но записать, наверное, надо”. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА
ГОРДЕЕВА: А ведь я тебя совсем не знала до “Подари жизнь”. Какая ты была?
ХАМАТОВА: Другая. Совершенно другая, Кать.
ГОРДЕЕВА: Звезда?
ХАМАТОВА: Актриса.
ГОРДЕЕВА: Платья-дорожки-папарацци?
ХАМАТОВА: Даже не это самое главное отличие. С одной стороны, мне с первой минуты не понравилось видеть себя на обложках, быть предметом обсуждения. Помню, как Валера Тодоровский в интервью “Московскому комсомольцу” во время съемок “Страны глухих” сказал что-то в том духе, что вот “Чулпан, которая сейчас у меня снимается, – это будущая звезда”. А я как раз прибежала в ГИТИС принимать вступительные экзамены и зашла в общественный сортир: там стояла дикая вонь, грязь, дерьма по колено и во всем этом валялся “Московский комсомолец” с Валериными словами про меня и моим портретом. Использована была уже по назначению эта газета или нет, осталось загадкой, но чувство отвращения я запомнила. Оно закрепилось на съемке с модным фотографом Владимиром Фридкесом для журнала “Вог”. Фридкес тогда был реальной фэшн-звездой. А мне было года двадцать два, только что вышла “Страна глухих”. И он обращался со мной так, что я не то что себя человеком не чувствовала, не то что артисткой, а просто, ну, какой-то функцией, предметом. И он довел меня до такого состояния, что я встала и сказала: “Я не модель, я актриса”. Фридкес обалдел. И переспросил: “Чтоооо?” Я говорю: “Либо вы меняете тон, либо я сейчас уйду со съемки”. Он сказал: “Ну и уходи”. Я повернулась и ушла. Правда, мы уже успели что-то снять, статья с фотографией вышла.
Спустя годы Фридкес перестал быть модным фотографом, стал художником современного искусства в арт-группе AEC. И как-то мы встретились с ним на выставке АЕС+F. Мы поздоровались. И вдруг он говорит: “А я помню нашу первую съемку. Я вам очень за нее благодарен. Вы мне поставили голову на место”. Представляешь? Я говорю: “Да вы что?” Он: “Да, я всё помню”.
А звездой я так и не стала, потому, видимо, что, когда начинала складываться вся эта звездная институция в России, я уже уехала в Германию. И прожила там три года, приезжая только на короткие блоки спектаклей. Вероятно, я пропустила момент вхождения в звездную актерскую тусовку. Хотя, сейчас я понимаю, мир, окружающую действительность я воспринимала очень по-актерски.
ГОРДЕЕВА: Это как?
ХАМАТОВА: Я относилась к мироустройству довольно просто: жила, не задумываясь, что могу по-настоящему участвовать в том, как всё вокруг меня устроено. Я жила в аквариуме, где важны были только мои проблемы: личные, профессиональные. А страна? Страна меня волновала постольку поскольку. Я как-то не зацикливалась на этом. Думала: вот есть такая страна, какая есть, что же поделаешь. Моя задача – развиваться в профессии и быть полезной своим детям.
ГОРДЕЕВА: Ты хочешь сказать, что восприимчивость к чужой боли, которая так отличает тебя нынешнюю от других людей, – качество, которого прежде не было?
ХАМАТОВА: Мне трудно так о себе говорить. Но одно я знаю совершенно точно: я не смотрела телевизор, не жила жизнью страны, я существовала в пространстве, надежно отгороженном шлюзами от реальной жизни с ее правдой, болью, несчастьем и радостью. Спроси ты меня тогда о больных детях, я бы не поняла вопроса. Какие больные дети? Это – не по моей части, у меня другая профессия.
ГОРДЕЕВА: По драматургии тут должно случиться какое-то потрясение.
ХАМАТОВА: Это был поступательный процесс. Вначале меня просто вывело, вынесло из тумана, в котором я пребывала, когда зимой две тысячи второго года сыну моих ближайших казанских друзей поставили диагноз “лейкоз”. Семья, конечно, впала в ступор. Мы перезванивались, переписывались, но казалось, что никакого выхода нет. Я естественным для себя тогдашней и для большинства людей того времени образом полагала, что “там”, то есть за границей, могут вылечить всё, что “здесь”, то есть в России, вылечить не могут. К тому же в Казани нашему мальчику и его родителям сказали однозначно: “Прекратите куда-то метаться и рыпаться. Вы должны готовиться к худшему”. И я к этому худшему была готова. Весь мой опыт общения с врачами призывал меня бежать от них сломя голову.
ГОРДЕЕВА: Надо же. А я выросла в состоянии абсолютного трепета перед медициной и медиками. Мне врачи спасли жизнь еще новорожденной, а потом, когда мне было около года, один одесский хирург совершил настоящее чудо и снова меня спас. Лет до двенадцати я росла, мечтая только о том, как стану детским кардиохирургом. В двенадцать пошла работать санитаркой в больницу, в отделение патологии беременных. Там меня ждал первый удар: я увидела, как в духовом шкафу, где должны были стерилизовать медицинскую ветошь, зажаривали поросенка ко Дню медработника. Но я не сдалась, и в тринадцать лет пошла в каникулы опять работать санитаркой, в отделение патологии новорожденных. Там я впервые в жизни увидела, как выглядит ребенок-отказник – ребенок, чья мама сразу после родов пишет отказ, оставляя малыша на попечение государства. Это был отдельный бокс, там лежали дети, которым нянечки, смеха ради, давали идиотские имена: Даздраперма, Пафнутий, Вилендрил и так далее. Им по часам разносили бутылочки со смесью, которые с одинаковым торопливым безразличием швыряли у изголовья. Это, наверное, самая страшная картина в моей жизни – как кричит голодный младенец, который не смог, не успел поймать ртом соску бутылки со смесью. Смесь льется рядом, а он остается голодным – не может достать.
ХАМАТОВА: Все дети были больные?
ГОРДЕЕВА: Нет. Кажется, двое младенцев с синдромом Дауна – и это, кстати, был тоже первый раз, когда я увидела ребенка с синдромом Дауна. Про одного из этих детей нянечки шептались, что он сын большого профессора из ростовского мединститута, профессор старый, и поэтому у ребенка такой диагноз, а про другого говорили, что его мама пила, короче, полный набор стереотипов. Еще у одной девочки была “заячья губа”, которая, как мы знаем, прекрасно оперируется, а остальные – всего детей было восемь или девять – просто брошенные младенцы.
С ними проводили какие-то бесконечные тренировочные манипуляции, на них студенты учились ставить катетеры. Катетеры ставили лихо – в височную венку. Чтобы ее хорошо было видно, ребенку выкручивали нос.
Причем это не делалось с какой-то особой жестокостью. Это была часть повседневной жизни. Как-то мне доверили ставить катетер одному из этих младенцев. Катетеры назывались самолетиками. Помню, я делала вид, что я тоже человек железной выдержки и не обращаю внимания на то, что младенец верещит. Я попала в вену. Знаешь, мне тогда почему-то не пришло в голову, что для того, чтобы ставить катетер, совершенно необязательно заставлять ребенка орать. Но я эту мысль не додумала. Просто обо всём увиденном написала свою первую в жизни статью в главную городскую газету. Был страшный скандал.
ХАМАТОВА: Так тебя нашло твое предназначение – журналистика.
ГОРДЕЕВА: Наверное, да. Хотя я до сих пор страшно жалею, что не стала врачом. Кстати, скандал разгорелся тогда вовсе не по поводу нарушения медицинской этики, а по поводу этих чудовищных имен. Ну и вообще, как-то у всех глаза открылись: у нас в стране, в нашем городе отказываются от младенцев. Надо же.
ХАМАТОВА: Я, скорее всего, смотрела на медицину глазами этих младенцев. Я врачей боялась. Но это, наверное, какое-то общее наше, советское, нет?