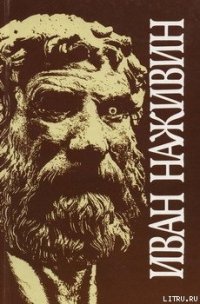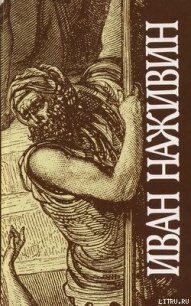Софисты - Наживин Иван Федорович (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Окрепнув у власти, Периклес никогда — опять чувство невольной гордости наполнило его грудь — не льстил народу, но всегда старался говорить ему правду. О нем говорили, что военный он был плохой. Древние греческие общины не знали разделения сословий военного и гражданского. Все владели оружием и каждую минуту должны были выступить против врага. Поэтому-то в воспитании юношества гимнастика и стояла на первом месте, как музыка и танцы, тоже предметы весьма важные, которые служили для религиозных празднеств. У него, говорили злые языки, военной жилки не было, но мужество и готовность идти до конца были всегда…
Да, много всего было пережито и немало сделано. Он оглянулся на свой Акрополь, который сиял в лунно-дымном сумраке над спящим городом, как серебряный: этот «высокий город», кремль, был, как казалось Периклесу, лучшим символом всего, что было достигнуто в великих трудах. Но сколько еще остается сделать!.. — подумал он, как думают все реформаторы, в самообольщении своем не видящие, что деятельность их — это бочка Данаид, которую никогда наполнить нельзя.
Особенно беспокоил его теперь вопрос об иноземцах — так назывались в Афинах греки хотя бы из соседних городов, — и рабах. На пятьсот пятьдесят тысяч населения города и Аттики полноправных граждан было всего двадцать тысяч, и многие почтенные люди находили, что и это чрезмерно. Ничего удивительного в этом со стороны почтенных людей не было: чем меньше лиц участвуют в дележе казенного пирога, тем доля каждого больше. Вот недавно царь ливийский Псамметих, чтобы выразить Афинам свое особое почтение, — и в то же время завоевать афинский рынок, — прислал в дар республике большое количество пшеницы. И граждане на Пниксе решили, что на раздел хлеба имеют право только коренные граждане Афин, просмотрели списки их и — вычеркнули из них пять тысяч беднейших, то есть тех, кому дар ливийского царя был бы особенно полезен. Эта игра слишком опасна, а еще более опасно страшное численное превосходство в городе рабов и метеков… Правда, Спарта в этом отношении значительно опережала Афины, но что неразумно, то неразумно везде.
И не раз и не два тревожила его в ночи разница между шустрым, бойким горожанином и крестьянством:
об этом Акрополе будут говорить тысячелетия, а крестьянин — дикарь. Для горожан на общенародные средства он только что выстроил Одеон, пышное здание для музыкальных празднеств, а мужик живет на века сзади. В теории он имеет полное право на участие в делах общественных — представительства республики Эллады не знали, а все дела государственные решались народом непосредственно, — но за дальностью расстояния от деревни до Пникса крестьянин этими правами пользоваться не мог. Поэтому всеми делами республики вертели горожане — часто в ущерб мужику.
И, может быть, самое важное и самое тайное, что грызло его, это опасение охлократии, власти толпы невежд, которая вертела в городе всем, отдавая свои симпатии первому горлопану понаглее. Часто в один и тот же день Пникс не раз менял свои мнения: что перед народным собранием толпа порицала, за то на собрании она голосовала, а, разойдясь, порицала тех, за кого голосовала и — себя. Его приятель Сократ не раз говаривал: «Никто не взялся бы быть кормчим, не зная моря и управления кораблем, а за управление государством берутся все, как будто это было легче». И о выборах он говорил неплохо: «Разве мы голосованием выбираем кормчего, флейтиста, архитектора? А ведь ошибки, которые они могут сделать, совершенно ничтожны в сравнении с ошибками государственных людей». И раз, когда Хармидес, знатный и богатый юноша, стремившийся к общественной работе, обнаружил боязнь перед публичным выступлением, Сократ сказал ему: «Неужели же ты боишься выступить перед кожевниками, плотниками, кузнецами, матросами и рыночными торговцами? А ведь только из них и состоит народное собрание». И вот кожевники и матросы вертели всем и, боясь «тирана», сами становились несноснейшими тиранами.
Много забот причинял ему теперь и вопрос о колонизации. Греки в этом отношении следовали за финикиянами, но они строили не торговые конторы, а целые города, от отдаленнейших берегов Эвксинского Понта — уже века существовали там греческие колонии — до почти Геркулесовых Столпов. Страсть к приключениям, излишек населения, сосредоточение земель в руках аристократии, общественные раздоры, какое-нибудь бедствие, остракизм, иностранное нашествие, необходимость отыскивать внешние рынки — все это толкало и афинян на этот путь. Первоначально это были частные предприятия. Город-мать доставлял своему рою только священный огонь для очага нового города и жреца, который должен был выполнить священные церемонии при его основании. И нужно было облегчить положение бедняков, и освободить город от беспокойной толпы, и дать место кормления какому-нибудь обедневшему, но благородному роду, а теперь, на Стримоне, под Потидеей, дело шло о свободных проливах к Понту Эвксинскому, о том, чтобы не давать Фракии слишком там усилиться и о монополии Афин на тамошние лесные богатства и прииски…
И он смело подвел итог: не толпа агоры, не опасная олигархия, а он, только он, Периклес, может вести эту сложную и нелегкую игру. Но в этом итоге он не хотел сознаться и самому себе.
Грудь отрадно дышала свежим запахом листвы и фиалок, ухо чутко слушало плеск и бульканье фонтанов, а дума шла. И наряду с хозяйственными думами в последнее время все чаще и чаще приходили в голову совсем новые мысли, которых он раньше совсем не знал. Иногда ему начинало казаться, что достигнуто совсем не так уж много. Не так давно Аристофан зло бросил в театре ядовитые слова:
И эти странные стихи, которые пришли ему на память недавно, во время болезни, и которые с тех пор не покидают его:
И Аспазия не могла тогда вспомнить, откуда эти стихи, хотя и она знала их…
Вечная грызня городков-государств Эллады — за которою теперь скрывалась только борьба Афин со Спартой за гегемонию — привела к заключению тридцатилетнего мира. Но не успели делегаты двух великих и благородных народов подписать его, как сразу же возникли затруднения: по этому договору Эгина, островок-государство, член Пелопоннесской Лиги, то есть союзник Спарты, при условии уплаты дани Афинам пользовалась автономией. Но недавно Афины вынуждены были отказать эгинцам в праве ввозить нужную им шерсть из Мегары, отношения которой с Афинами были нехороши. Все возмутились. Афины выразили готовность отдать дело на рассмотрение третейского суда, как это было обусловлено мирным договором. Но тут вспыхнуло дело с Потидеей. До этого Афины с Коринфом в войне не были, но теперь война вспыхнула и грозила разгореться. Архидам, спартанский царь, был очень осторожен, но военная партия победила и спартанцы послали к дельфийскому оракулу вопросить: не будет ли лучше для них начать войну? Аполлон отвечал: если Спарта вложит в войну всю свою силу, войну она выиграет, а он, Аполлон, будет помогать им, даже если они и не воззовут к нему… Спарта подняла голову и заявила, что она со своими союзниками борется за свободу Эллады против города, который становится тираном, то есть против Афин. Пришло оттуда посольство: Афины должны изгнать всех Алкмеонидов — дерзость чрезвычайная, ибо Алкмеонидом был сам Периклес. Новое посольство: снять осаду Потидеи, восстановить полностью автономию Эгины, отменить декрет о Мегаре: «Тогда войны не будет».
И вот вдруг теперь это внезапное нападение на Платею со стороны фиванцев, союзников Спарты.
— Как это было? — спросил Периклес гонца.
— Сторонники Фив открыли в ночи городские ворота им… — сказал гонец. — Город был разбужен криками герольда, который требовал присоединения города к единой и неделимой Беотии. Сперва с испугу платейцы затаились, но, убедившись, что в стены вошел только ничтожный отряд, они на рассвете, под дождем напали на фиванских гоплитов. Даже женщины вступили в бой и осыпали фиванцев черепицей с кровель. И прогнали, и успели взять пленных, которых держат теперь заложниками…