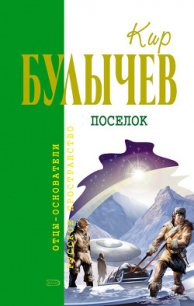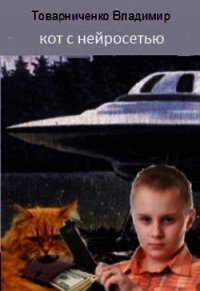Страстная неделя - Арагон Луи (книга бесплатный формат TXT) 📗
— За ваше здоровье,'приятели! — Бернар поднимает стакан и пьёт. Сидр горчит: в него кладут для крепости косточки кизила. — Хороший сидр, на свету прозрачный, а цветом похож на мочу, верно?
Но ведь все это-декорация. Все это-маска. За всем этим прячется нечто такое, о чем Бернар не хочет думать, нечто такое, что шевелится, трепещет в душе, хотя он так старается заглушить недавнее воспоминание, боль, терзающую затуманенный мозг и сердце, бешено бьющееся в груди. То, что сказали её глаза, и маленькая холодная ручка, выскользнувшая из его руки, и слово «прощай»… И ничто: ни разноголосый хмельной гомон, ни унылое нытьё этих дворянчиков, ни вино, ни желание думать о чемнибудь другом-ничто, ничто не могло стереть образ, стоявший перед глазами, помочь Бернару забыть минуту' расставания; в ушах его все ещё звучали слова Софи, сказанные украдкой, когда она, потупив взгляд, чуть слышно, но явственно шепнула:
«Прощай, Бернар! Теперь уж действительно прощай!» 1?сли бы такие слова имели смысл, но ведь такие слова не имеют смысла, и почему она выбрала именно эти слова? Софи, Софи, моя Софи!..
Эх ты! И ты ещё можешь называть её «моя Софи», смешно, ведь ты так одинок, а она принадлежит другому! И ты все ещё отказываешься верить? Но ведь она сказала: «Теперь уж действительно прощай. Мы больше не можем видеться, мы дурно поступаем… Надо все это кончить. Куда это нас приведёт? Я больше не могу лгать, я люблю мужа, да-да, люблю… может быть, по-иному… но ведь он мне муж…» А тогда, значит, что же?
Что же? И сколько ни говори себе: «Это чудовищно!» — не поможет. Ничему не поможет. Так всегда бывает. В книгах. В выигрыше всегда Альберт… Шарлотта всегда остаётся с Альбертом и в лучшем случае приходит поплакать на могиле Вертера, которого схоронят под высокими деревьями, в стороне от христианского кладбища, ибо туда не допускают самоубийц.
— Сударь, — сказал кудрявый, — умоляю вас… Мы все умоляем вас…
Бернар громко рассмеялся. Зазвенели монетки, брошенные им на стойку.
Четверо правоведов забрались в фургон, а долговязого Бернар взял с собою на козлы. Уж очень бледен, бедняга, ему полезно воздухом подышать. Ничего, что дождь на него побрызжет, — так скорее протрезвится.
«Да, облекись в траур, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный близится к концу своему!..»
Несомненно, у Бернара была склонность порисоваться, и, может быть, алкоголь усугублял эту его черту. Но порисоваться ему хотелось лишь перед самим собою, чтобы доказать себе своё превосходство над окружающими. Траурную тираду он произнёс с каким-то угрюмым злорадством; набросил на плечи свой плащ с многоярусными воротниками, сел на козлы, взял в руки вожжи, а рядом с ним усаживался долговязый правовед. И вдруг этот юноша робким голосом воскликнул:
— Ах вот как! Вы, значит, тоже любите Вертера?
И Бернару стало стыдно, как человеку, которого врасплох застали голым. Он сердито буркнул:
— Кто этот Вертер? Я такого не знаю.
Ошеломлённый правовед прислушивался к голосам своих товарищей, разговорившихся в фургоне (слов через стенку не было слышно), и не дерзнул сказать Бернару в ответ: «Вы смеётесь надо мной?» Он лишь молча задавался вопросом: что за человек их странный возница?
А Бернаром завладела одна неотвязная мысль: если Шарлотта и сказала Вертеру: «Дольше так не может продолжаться», то лишь для того, чтобы попросить своего друга не приходить к ним раньше Рождества… то есть она хотела, чтобы на Рождество он пришёл. Ужасное слово «прощайте» уста её произнесли лишь после чтения Оссиана, когда Вертер потерял власть над собою и почтение к Шарлотте… Но если Софи изгнала его, Бернара, значит, что-то произошло в ту ночь? И он внезапно поверил, что Софи действительно любит мужа и что в ту ночь… Это оказалось тяжелее всего. Он согласен никогда больше её не видеть, но не хочет, чтобы она была счастлива с другим, а воображение с жестокой точностью рисовало ему невыносимые картины этого счастья.
И вдруг он заметил, что его сосед, о котором он совсем и позабыл, стал слишком словоохотлив. Правовед рассказывал вознице свою жизнь, а возница не слышал ни слова из его повествования. Впрочем, что может быть занимательного в жизни двадцатилетнего студента, второй год изучающего юриспруденцию и мечтающего о судейской должности в Шартре или в Ножане? Но дело в том, что у него была кузина… Как у всех юношей, конечно. И он читал ей Оссиана, как и все.
Софи. Больше никогда не видеть Софи. В этом мире, где люди, избавившись от Бурбонов, попадают под власть Бонапарта.
А он, Бернар, кто он такой? Бедный приказчик мануфактуры Ван Робэ, в любую погоду разъезжающий по пикардийским дорогам; всегда у него перед глазами картины безысходной, беспросветной нищеты, которые доводят его до отчаяния, и до отчаяния доводит его также мысль, что народ не способен достигнуть единения, понять собственные свои интересы, люди готовы слушать любых ловкачей, не хранят верность своим погибшим героям и идут, не заглядывая в будущее, за первым попавшимся безумцем. Кому же верить, если даже этот бывший член Конвента, этот соратник Бабёфа… если даже самому себе нельзя верить…
— Ах, если бы вы знали, сударь, как она хороша!..
Бернар вдруг захохотал. Он вспомнил, как вчера на этом самом месте, на козлах фургона, он говорил господину Жуберу чуть ли не те же самые слова. Это показалось ему смешным.
Вдруг он спросил совершенно серьёзно:
— Неужели вы, молодой человек, думаете, что тот, кто собирается сделать судейскую карьеру, способен покончить с собою из-за своей кузины?
Правовед даже вздрогнул: он и не думал говорить о самоубийстве, но, почувствовав себя глубоко уязвлённым насмешкой, прозвучавшей в этом вопросе, дал ответ весьма глупый:
— По-вашему, это несовместимо?
Бернар, ничего не сказав, хлестнул лошадей. И после довольно долгого молчания произнёс, как будто разговаривал сам с собою:
— Если кавалерия Эксельманса заняла правый берег Соммы, то в Абвиль, мой дражайший юный спутник, не пустят таких болванов, как я, которые везут в своих фургонах волонтёров королевского воинства, и я потеряю место в конторе почтённого господина Грандена из Эльб„фа, нынешнего хозяина прядильноткацкой мануфактуры Ван Робэ, человека изворотливого и достаточно гибкого политика, он сумеет за мой счёт приобрести благосклонность новой власти.
— Значит, действительно Эксельманс занял правый берег Соммы? — испуганно спросил «дражайший юный спутник».
— Вы же сами слышали в Эрене, что говорилось в кабаке.
Слышали или нет? Так что же спрашиваете? Да-с, попали мы с вами в передрягу.
— Но в таком случае зачем же вы взяли нас с собой?
— Я-то? Да потому, что я выше всех этих мелких житейских неприятностей. И ещё потому, что глупее этого поступка и не придумаешь. И ещё потому, что я хотел сыграть сам с собою шутку для собственного развлечения. И для того, чтобы вы рассказали мне о своей кузине. Она прелестна, кузина ваша? Да?..
И ещё не сказала вам: «Прощайте»?
Правовед досадливо махнул рукой, как будто отгоняя муху.
На душе у него кошки скребли. Он не собирался вести задушевные разговоры с насмешником возницей.
— Вы думаете, — сказал он, — что кавалеристы Эксельманса…
— Не думаю, а знаю…
Сколько злобы в этом ответе! Но до чего же Бернару смешон двадцатилетний влюблённый, который, испугавшись, сразу забывает о своей любви. Хочется поиздеваться над таким трусом.
Больше никаких Вертеров, никаких Оссианов-напугать зайца как следует.
— Я знаю… — повторил Бернар.
Откуда же он это знал? Ведь не видел же он их собственными своими глазами. А я, понимаете ли, из той же породы, что и Фома Неверный. Фома Неверный? Ну что ж, у всякого свой идеал.
Пожалуйста, можешь касаться пальцем раны в моем боку, можешь даже засунуть туда весь кулак…
— Ну разумеется, — сказал «ихний Бернар», — я их видел…
— Видели? По-настоящему видели? А где?
Ишь ты! — позеленел от страха будущий нотариус. И зачем подобным трусам такой огромный рост? Никогда из этого долговязого не выйдет настоящего мужчины, зря только потратили на него материал. Бернар почувствовал, что его сосед дрожит.