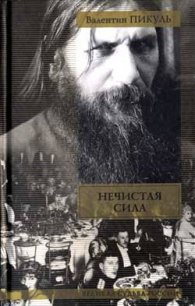Фаворит. Том 1. Его императрица - Пикуль Валентин Саввич (читать книги онлайн txt) 📗
Шагин-Гирей выдернул стрелу из щита и послал ее обратно. Могучий байрактар с ревом опрокинулся назад – длинная стрела, еще вибрируя после полета, торчала из его глаза.
Древняя каменная сова равнодушно проследила, как в облаке душной пыли исчезли всадники, имевшие кочевья, но никогда не имевшие дома.
«Шагин» в переводе с татарского означает: сокол!
Вечный шум Черного моря оживлял неизбывную тоску ногайских степей, над которыми пролетали кричащие аисты…
Действие седьмое
России – побеждать
Какой это ряд теней проходит в очах моих; лица которыя действовали силами своими на волнах мира, – и действовали на меня; все это покойники. Но какое страшное кладбище после них…
1. Рябая могила
Свидание в Нейссе короля Фридриха II с императором Иосифом II не прошло даром: Мария-Терезия, верная своей тактике, самочинно захватывала земли валашские, только что освобожденные от турок российскими войсками. Генерал Христофор Штоффельн, командовавший корпусом Молдавии, привез в Яссы один из пограничных столбов, и Румянцев наступил на него:
– Ого! Из камня вырублен. Заране готовились…
Чудовищны и непонятны дороги, которые избирает чума для своего победоносного и мрачного шествия по трупам! В корпусе Штоффельна она явилась в образе куска красивой парчи, брошенного посреди дороги близ Галаца, и безвестный солдат сунул парчу в ранец – бездумно, себе на гибель.
К этому времени часть барских конфедератов уже очухалась от угара, пришла к Румянцеву с повинной; поляки стали служить в русской армии – наравне с болгарами, арнаутами, сербами, хорватами, черногорцами и мадьярами, видевшими в России свою избавительницу от ярма султанского.
А недавно, дабы рвение к подвигам возгорелось, Екатерина учредила новый боевой орден – Георгия Победоносца – символ чести и бранной доблести. Первые георгиевские кавалеры гордились по праву, ибо украситься Георгием можно было лишь через очень большое отличие.
Потемкин тоже поддался всеобщему искушению:
– Мне бы Георгия хоть четвертой степени, так я бы после войны, если цел останусь, каждый день богу свечку ставил…
Не скрывая зависти, поглядывал он на гусара Семена Зорича, уже имевшего четвертую степень. Зорич служил секунд-майором, храбрости был непостижимой, но столь нищ, что даже в морозы рубашки не имел под мундиром (Потемкин возымел его благодарность, одарив бедняка бельем своим). Гусар был из сербов, школа его миновала, едва читать по складам умел, зато уж рубака хороший! Он бился так красиво, что турки иногда расступались в бою, разинув рты, любовались, как Зорич сечет янычар по шеям – только головы отлетают… Поверх мундира носил Потемкин янычарскую бурку, свалянную из верблюжьей шерсти плотно, как русский валенок; на привалах, когда садился на землю, бурка не сгибалась, образуя вокруг него нечто вроде палатки, поверх которой торчала одноглазая голова, вызывая смех у солдат.
Зимою Потемкин с кирасирами и генерал Иван Подгоричани с гусарами выступили на Фокшаны; ровно и мерно, вровень с пушками, шагала неутомимая пехота. Передовые пикеты открыли стрельбу, всадники вытянулись в седлах.
– Началось дело, – сказал Подгоричани.
На снегу им встретились безголовые трупы.
– Кажется, татарва рядом, – поежился Потемкин.
– Татары голов не режут – это османская забава…
Перед ними открылась панорама лагеря, над которым были воздеты больше сорока бунчуков, конские хвосты их растрепывал холодный ветер. Подгоричани доверил Потемкину пехоту, а конницу повел в атаку сам. Потемкин двинул за ним батальоны, на переправе через Милку провалился под лед, потом спасал из воды пушки, кричал, чтобы берегли пороховые фуры, весь мокрый, он потерял с глаза повязку. К вечеру сраженье само по себе притихло, но пикетов не снимали. Настала ночь, луна померкла, закрытая тучами. Григорий Александрович из линии пикетов выехал, в одиночку отправился верхом в Фокшаны, желая поужинать с Подгоричани. В темноте не разглядел, а скорее почуял лаву кавалерии, идущей ему наперерез. Норовистая кобыла, вздернувшись, вдруг занесла его в самую гущу турецких спагов, которые, дыша почти в лицо парню, спрашивали, кто он, какого бунчука, какого байрака.
Сознание работало машинально: спасаться, спасаться.
– Берабер гель! – заорал Потемкин (что по-турецки значило «Вперед, за мной!»), и турки, приняв его за янычарского офицера, шумной и жаркой лавиной понеслись следом за ним по снежной целине.
Потемкин мчался впереди всех, а сердце уже замерло от ужаса: в любой момент спаги могли обнаружить свою ошибку, и тогда от него кусков бы не осталось. Но вот уже мигнули родимые костры – Потемкин вывел противника прямо на кавалерию Подгоричани, траверзом шарахнулся на кобыле в сторону, чтобы не срубили свои же гусары. Со стороны видел, как турки на быстром аллюре врезались в косяк русской конницы, а та встретила их метелью взлетающих палашей…
Следующий день стал батальным, и Потемкин здорово отличился, отбив у турок две пушки, но и сам едва в живых остался. Похоронив убитых на окраине города, русские храбрецы выпили в Фокшанах все котнарское вино, шипением и легкостью похожее на шампанское. Тут и радовались, тут и плакали, потом тронулись обратно… Румянцев признал заслуги Потемкина в деле под Фокшанами, сделав его кавалером, но не георгиевским – лишь аннинским. Реляции с фронта были напечатаны в «С.-Петербургских ведомостях». Потемкина представили в ореоле геройства. Вася Петров обласкал его вычурною эпистолой:
Плохие стихи. Но дареному коню в зубы не смотрят.
Потемкин застал Яссы в тревоге: чума проникла в ставку, генерал Штоффельн умер. Пока она блуждала где-то по бивуакам, поражая безвестных солдат, Петербург не волновался, но теперь, со смертью начальника Молдавского корпуса, приходилось публиковать для всеобщего сведения, что чума есть, она рядом, неотвратима, как рок. Корпусом стал командовать князь Николай Васильевич Репнин, прибывший из Варшавы, и Потемкин спросил его – каково там поживает его приятель Яков Булгаков. Репнин ответил: «Предвижу большое будущее сего молодого расторопного человека…»
Каждый человек имеет свои недостатки – имел их и Румянцев. Если встречались на пути его армии холмы, он рапортовал в Петербург о горах неприступных, болотца под его пером становились трясинами, ручьи разливались в реки, а при наличии провианта на неделю он писал, что они тут, бедные, с голоду помирают. Екатерина хорошо знала эту причуду в характере полководца и потому бывала крайне настойчива в своих требованиях к нему, заведомо зная, что холмы преодолеют, в болотах не увязнут, реки любые форсируют, а с голоду никто не помрет…
Кишинев, разоренный татарами, был в ту пору торговым местечком, где жили купцы-армяне. Армия же квартировала в Яссах, столице молдаванской. Здесь монастырь и дворец господаря, а сам город – захудалая деревня. Смуглые и жилистые, как чертовки, ясские боярыни щелкали волошские орешки быстрее белок, сидя в колясках подле недвижимых и тучных мужей-бояр, игриво подмаргивали русским «пашам» и «сераскирам». Потемкин, изнывая от скуки, тоже завел себе пассию по имени Кассандра, которая всегда валялась на кушетке, уже в готовной истоме.
Васенька Рубан писал ему в Яссы: не осталось ли чего в Молдавии от Овидия, коего прегордый Рим сослал в эти края? О себе же сообщал, что граф Никита Панин использует его знание турецкого языка в Коллегии иностранных дел, а Васька Петров ныне в чести живет: Екатерина доверила ему воспитание того мальчика, Маркова-Оспина, от которого прививки на Руси завелись. Потемкину было отчасти даже обидно, что стал зависеть от Петрова, через которого и отсылал он письма к Екатерине; она ему не отвечала, но Петров не обманывал приятеля, заверяя его в том, что все письма вручил императрице наедине – в тиши библиотеки. И если Екатерину мог он оправдать как императрицу, то непонятно было ее поведение как женщины, знавшей, что давно любима…