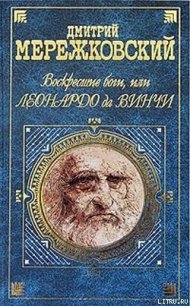Петр и Алексей - Мережковский Дмитрий Сергеевич (электронные книги бесплатно .txt) 📗
Он посмотрел на отца с такою странною усмешкою, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший.
Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу.
– Твоя рука?
– Моя.
То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам, с просьбой, чтоб его не оставили.
– Волей писал?
– Неволей. Принуждал секретарь графа, Шенборна, Кейль. «Понеже, говорил, есть ведомость, что ты умер, того ради, пиши, а буде не станешь писать, и мы тебя держать не станем» – и не вышел вон, покамест я не написал.
Петр указал пальцем на одно место в письме; то были слова:
«Прошу вас ныне меня не оставить ныне».
Слово ныне повторено было дважды и дважды зачеркнуто.
– Сие ныне в какую меру писано и зачем почернено?
– Не упомню, – ответил царевич и побледнел.
Он знал, что в этом зачеркнутом ныне – единственный ключ к самым тайным его мыслям о бунте, о смерти отца, о возможном убийстве его.
– Истинно ли писано неволею?
– Истинно.
Петр встал, вышел в соседнюю комнату, позвал денщика, что-то приказал, вернулся, опять сел за стол и начал записывать последние показания царевича.
За дверью послышались шаги. Дверь отворилась. Алексей слабо вскрикнул, как будто готов был лишиться чувств.
На пороге стояла Евфросинья.
Он ее не видел с Неаполя. Она уже не была беременна. Должно быть, родила в крепости, куда посадили ее, тотчас по приезде в Петербург, как узнал он от Якова Долгорукова.
«Где Селебеный?»– подумал царевич и задрожал, потянулся к ней весь, но тотчас же замер под пристальным взором отца, только искал глазами глаз ее. Она не смотрела на него, как будто не видала вовсе.
Петр обратился к ней ласково:
– Правда Ли, Феодоровна, сказывает царевич, что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею, по принуждению цесарцев?
– Неправда, – отвечала она спокойно. – Писал один, и при том никого иноземцев не было, а были только я да он, царевич. И говорил мне, что пишет те письма, чтоб в Питербурхе подметывать, а иные архиереям подавать и сенаторам.
– Афрося, Афросьюшка, маменька!.. Что ты?..-залепетал царевич в ужасе.
– Не ведает она, забыла, чай спутала, – обернулся он к отцу опять с тою странною усмешкой, от которой становилось жутко. – Я тогда план Белгородской атаки отсылал секретарю вицероеву, а не то письмо…
– То самое, царевич. При мне и печатал. Аль забыл?
Я видела, – проговорила она все так же спокойно и вдруг посмотрела на него в упор тем самым взором, как три года назад, в доме Вяземских, когда он, пьяный, бросился на нее, чтоб изнасиловать, и замахнулся ножом.
По этому взору он понял, что она предала его.
– Сын, – сказал Петр, – сам, чай, видишь, что дело сие нарочитой важности. Когда письма те волей писал, то явно намерение к бунту не токмо в мыслях имел, но и в действо весьма произвесть умышлял. И то все в прежних повинных своих утаил не беспамятством, а лукавством, знатно, для таких же впредь дел и намерения. Однако же, совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечисту, дабы наносам без испытания верить. В последний спрашиваю, правда ль, что волей писал?
Царевич молчал.
– Жаль мне тебя, Феодоровна, – сказал Петр, – а делать нечего. Буду пытать.
Алексей взглянул на отца, на Евфросинью и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется.
– Правда, – произнес он чуть слышно, и только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безразлично.
Глаза Петра блеснули радостью.
– В какую же меру ныне писал?
– В ту меру, чтоб за меня больше вступились в народе, применяясь к ведомостям печатным о бунте войск в МеКленбургии. А потом подумал, что дурно, и вымарал…
– Так значит бунту радовался?
Царевич не ответил.
– А когда радовался,-продолжал Петр, как будто услышав неслышный ответ, – то, чаю, не без намерения; ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы?
– Буде прислали б за мной, то поехал бы. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того…
Остановился, еще больше побледнел и кончил с усилием:
– Для того, что хотели тебя убить, а чтоб живого отлучили от царства, не чаял…
– А когда бы при живом? – спросил Петр поспешно и тихо, глядя сыну прямо в глаза.
– Ежели б сильны были, то мог бы и при живом,ответил Алексей так же тихо.
– Объяви все, что знаешь, – опять обратился Петр к Евфросинье.
– Царевич наследства всегда желал прилежно, – заговорила она быстро и твердо, как будто повторяла то, что заучила наизусть. – А ушел оттого, будто ты, государь, искал всячески, чтоб ему живу не быть. И как услышал,.что у тебя меньшой сын царерич Петр Петрович болен, говорил мне: «Вот, видишь, батюшка делает свое, а Бог-свое!» И надежду имел на сенаторей: «Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле».
И когда слыхал о каких видениях, или читал в курантах, что в Питербурхе тихо, говаривал, что видение и тишина недаром: «либо-де отец мой умрет, либо бунт будет»…
Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых он сам не помнил, обнажала такие тайны сердца его, которых он сам не видел.
– А когда господин Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе римскому, и я его удержала, – заключила Евфросинья.
– Все ли то правда? – спросил Петр сына.
– Правда, – ответил царевич.
– Ну, ступай, Феодоровна. Спасибо тебе!
Царь подал ей руку. Она поцеловала ее и повернулась, чтобы выйти.
– Маменька! Маменька! – опять вдруг весь потянулся к ней царевич и залепетал, как в бреду, сам не помня, что говорит.-Прощай, Афросьюшка!.. Ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой!..
Она ничего не ответила и не оглянулась.
– За что ты меня так?.. – прибавил он тихо, без упрека, только с бесконечным удивлением, закрыл лицо руками и услышал, как за нею затворилась дверь.
Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывал на сына исподлобья, украдкою, как будто ждал чего-то.
Был самый тихий час ночи, и тишина казалась еще глубже, потому что было светло, как днем.
Вдруг царевич отнял руки от лица. Оно было страшно.
– Где ребеночек?.. Ребеночек где?..-заговорил он, уставившись на отца недвижным и горящим взором.Что вы с ним сделали?..
– Какой ребенок? – не сразу понял Петр.
Царевич указал на дверь, в которую вышла Евфросинья.
– Умер, – сказал Петр, не глядя на сына. – Родила мертвым.
– Врешь! – закричал Алексей и поднял руки, словно грозя отцу.-Убили, убили!.. Задавили, аль в воду как щенка выбросили!.. Его-то за что, младенца невинного?..
Мальчик, что ль?
– Мальчик.
– Когда б судил мне Бог на царстве быть, – продолжал Алексей задумчиво, как будто про себя, – наследником бы сделал… Иваном назвать хотел… Царь Иоанн Алексеевич… Трупик, трупик-то где?.. Куда девали?..
Говори!..
Царь молчал.
Царевич схватился за голову. Лицо его исказилось, побагровело.
Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворожденных детей, вместе с прочими «монстрами», для сохранения в кунсткамере.
– В банку, в банку со спиртом!.. Наследник царей всероссийских в спирту, как лягушонок, плавает! – захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь пробежала по телу Петра. Он подумал опять: «Сумасшедший!» – и почувствовал то омерзение, подобное нездешнему ужасу, которое всегда испытывал к паукам, тараканам и прочим гадам.
Но в то же мгновение ужас превратился в ярость: ему показалось, что сын смеется над ним, нарочно «дурака ломает», чтоб запереться и скрыть свои злодейства.
– Что еще больше есть в тебе? – приступил он снова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с царевичем.
Тот перестал хохотать так же внезапно, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледнело, осунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмысленным взором.
– Когда имел надежду на чернь, – продолжал Петр, возвышая голос и стараясь сделать его спокойным, – не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить, или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?