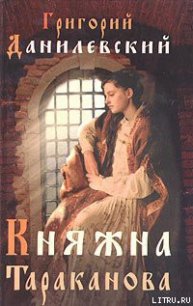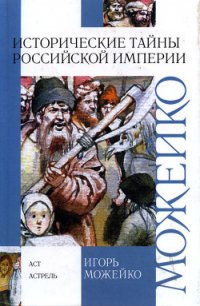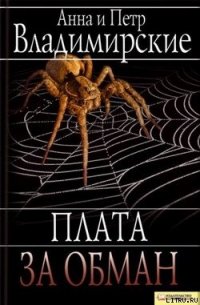Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Ясно, что папе пришлось уступить, и орден был официально закрыт. Такое закрытие неумирающего общества Лойолы скрепило только связи ордена и сделало его могущественнее. Вместе с тем оно очень озаботило иезуитов, заставив приискивать меры к сохранению своих громадных имуществ от секвестра передачей этих имуществ в надёжные руки частных лиц; наконец, необходимостью обеспечения положения своих отдельных членов. Ясно, что заботы о всём этом не могли не отвлечь иезуитов от интриги, которой они не видели не только конца, но даже начала. Тем не менее, узнав, что сочинённая ими принцесса отправилась в Рим, они поручили ехать за нею вслед отцу Антонию и командировали ещё одного испанского, номинально экс-иезуита, в действительности же одного из самых деятельных своих членов, поляка Ганецкого, который долго жил в Испании и Италии и составил там себе обширные связи. Таким образом выходило, что Али-Эметэ с жалобой на иезуитов отправлялась под руководством и покровительством самих же иезуитов.
Но, выезжая из Рагузы, Али-Эметэ, должно быть, ступила левой ногою. Письмо её к Гамильтону, с которым, казалось, она так сумела сойтись, одновременно было в руках Панина и Орлова; а въехав в Вечный Город, она узнала, что папа Климент XIV умер и что собран конклав для избрания нового папы.
Обидно было Али-Эметэ приехать в Рим из-за папы и не видеть не только папы, но даже никого из кардиналов, так как все они были заперты для конклава в Ватикане; между тем у неё, как и всегда, не хватало средств. Что было делать, к кому обратиться?
— Всего лучше обратиться к кардиналу-протектору Польши, ваше высочество, кардиналу Александру Альбани, — отвечал Доманский, успевший уже вместе с Чарномским явиться к Али-Эметэ. — Он всегда принимает в поляках участие. Его же, говорят, и в папы выберут.
— Прекрасно; но каким образом?
— Нужно узнать, где он помещается, пробраться к его окну и ожидать, пока он вышлет спросить, что нужно; а уж потом будет зависеть от него.
— Ступай, Доманский, отнеси ему моё письмо. Я хочу видеться с ним непременно.
Но Доманский воротился с помятыми боками и не передал письма.
Стража приняла его за одного из тех проходимцев, которые, под предлогом свидания, бродят по двору и садам Ватикана для испрашивания подаяния и разных милостей, смущая душу запертых кардиналов разными вестями и слухами.
Али-Эметэ признала, что дело было сделано с недостаточной ловкостью, и хотела отправиться сама.
— Но женщины не допускаются вовсе на двор Ватикана в это время, — заметила ей Мешеде.
— Я надену мужское платье.
— Это невозможно! — сказал патер Иосиф (Ганецкий). — Дайте мне письмо, я попробую.
Не скоро удалось передать письмо и Ганецкому. Несколько дней ходил он стоять под окном кардинала, купив прежде у кого следовало секрет, где это окно. Однако ж удалось, и письмо было передано.
Кардинал отвечал, что видеться ему невозможно, но что у него есть поверенный, аббат Рокотани, и княжна обо всём может переговорить с ним.
Аббат Рокотани был обворожён княжной. А тут ещё явился патер Лодий — приятель Ганецкого, служивший прежде офицером в русской гвардии. Он уверял аббата Рокотани, что знает княжну; много раз видел её в Зимнем дворце; услышал, что её хотели выдать замуж за принца гольштейнского; но что будто после переворота, за которым следовало вступление на престол Екатерины, она уехала в Пруссию.
Вследствие этих уверений Рокотани стал преданнейшим прозелитом Али-Эметэ. Он заявлял всем об её высоком происхождении и принял от неё для передачи кардиналу Альбани письма.
В письме своём Али-Эметэ коснулась двух, особо интересных для кардинала предметов. Первое — дел Польши, о которых говорила с видимым знанием настоящего их положения. Она обещала, если Бог приведёт её владеть престолом своих предков, восстановить Польшу во всех её правах и преимуществах. Второе — о католической религии, которую она обязывалась поддерживать и распространять в своём народе. Она высказала даже готовность сама принять католичество, но с тем чтобы это было совершенной тайной, ибо, — объясняла она, — принятие ею католичества в настоящем было бы равносильно отрицанию всех её прав. Кардинал отвечал коротко: «Да благословит Бог ваши добрые намерения!» Но этот лаконичный ответ сопровождался поручением аббату Рокотани содействовать, в чём можно, великой княжне Елизавете Всероссийской. Такое поручение быстро помогло Ганецкому пополнить несколько пустую кассу княжны, только ненадолго. Она вновь открыла роскошный салон в Риме, и деньги уплывали из её рук как вода, хотя она и открыла новый источник получения себе доходов, продавая обещание на награду, по получении престола, русскими орденами.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Но ведь сила капитала и заключается в том, что его можно издерживать, — отвечала она на упрёк Ганецкого в её безумном мотовстве.
— Всякая сила, однако ж, истощается! — отвечал Ганецкий и был прав. Она скоро очутилась опять в нужде, и нужде крайней. Обещаний её никто более не покупал; даже аббат Рокотани перестал приходить.
От кардинала Альбани, разумеется, нельзя было вновь ожидать помощи. Кардиналы не любят давать; они предпочитают лучше, чтобы к ним приносили, а они окажут нравственную поддержку. Ей пришлось снова занимать по мелочи, прибегать к ростовщикам, расставаясь со своими бриллиантами и не зная, что будет впереди.
В одну из таких минут, когда к ней со всех сторон приступали «за деньгами» и она терялась от невозможности даже придумать что-нибудь, что бы такое сказать на эти общие требования, ей докладывают:
— Банкир Джекинс просит позволения представиться вашему высочеству!
— Джекинс! Что ему нужно? Ну, пусть! Скажите камергеру Чарномскому, чтобы он мне его представил.
Чарномский через несколько минут ввёл низенького старичка в чёрном шёлковом кафтане, с небольшими золотыми петличками, в коричневых панталонах, чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками, — старичка худощавого, сгорбленного, седенького и хромавшего, поэтому шедшего с тростью, в набалдашник которой вставлен был редкий по своей величине изумруд.
— Чем могу быть полезной? — спросила Али-Эметэ, раскидываясь на кресле и приветливо кивая головкой Джекинсу, после того как он был представлен ей Чарномским.
— Ваше высочество, мне сказали, что вы изволите искать денег, желаете занять 7 тысяч червонцев. Я, с своей стороны, позволил себе явиться и доложить вашему высочеству, что наш банк, могу сказать — первый в Риме по своей солидности и осторожности, предлагает вам открыть свой кредит до какой угодно суммы. Семь тысяч или семьдесят тысяч червонных для нас безразлично. И если вашему высочеству угодно, касса нашего банка всегда к вашим услугам.
Али-Эметэ посмотрела на него с изумлением.
— Откуда вы взяли, что мне нужны деньги? — спросила она дрожавшим, нерешительным голосом; уж слишком они ей были нужны. — Почему вы полагаете, что я возьму у вас деньги? — продолжала она, колеблясь и как бы теряясь. — И на каком основании вы думаете, что если я у вас возьму, то возврат их в вашу кассу несомненен? Я так ещё недавно в Риме, и, признаюсь, меня весьма удивляет... Я вам очень благодарна, но желала бы знать... Видите, мне деньги вовсе не нужны; но...
Джекинс улыбнулся. Он знал, что сегодня только у его бухгалтера заняли 80 червонных от её имени, под залог бриллиантовой цепочки, и заняли по 3 процента в месяц, с платежом процентов ежемесячно.
— Я ниоткуда не взял; мне граф Ланьяско сказал, что вы желали бы занять. Я и подумал: «Такая прекрасная принцесса, платёж такой верный; да я из 7 процентов годовых с моим великим удовольствием; особенно при таких надеждах и таком поручительстве...» Вы простите меня, ваше высочество, что я позволяю себе так говорить; но я банкир, торговец деньгами, и должен искать сбыт своему товару. Видя, что я могу у вас иметь верный и обеспеченный сбыт, я себе позволил... Ещё раз простите, что позволил беспокоить. Но вы изволите быть здесь чужестранкой, может быть, если не теперь, после будет нужно. Я позволю себе только заявить, что наш банк всегда к услугам вашего высочества...