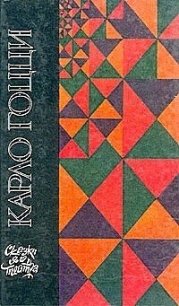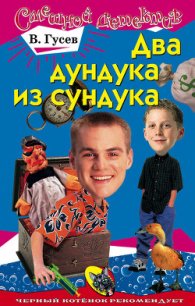Баудолино - Эко Умберто (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT) 📗
— Он, самый молодой…
— Самый неопытный. На скалах, ища съестное, засунул руку не разобрав куда и был укушен гадюкой. Он только и успел со мной попрощаться и прошептать, чтоб я был верен покойной сестре, любимой супруге, тогда хотя бы у меня в памяти она не перестанет существовать. А я забыл Коландрину. Поэтому опять предстал перед собой прелюбодеем и предателем, изменявшим и Коландрине и Коландрино.
— А дальше?
— Дальше темнота. Сударь Никита, когда я выехал из Пндапетцима, по моему подсчету стояло лето Господня года 1197. В Константинополе я с теперешнего января. А в середине — шесть с половиной пустых лет; провал в памяти, а может… откуда мне знать… пустота в мире.
— Шесть лет проблуждал по пустыне?
— Год. Может быть, два, кто там считал? После гибели Коландрино, не знаю, сколько протекло месяцев, мы оказались у подножия гор, на которые не знали как забраться. От первоначальных двенадцати нас оставалось всего шесть. Шесть людей и один исхиапод. Рваные, тощие, опаленные солнцем, сохранившие только оружие и ранцы. Нам померещилось, что это конец дороги и что наша судьба сгинуть там. Внезапно мы обнаружили, что навстречу скачет команда конных, препышно разодетых, с чищеным оружием, с человечьими телами и с песьими головами.
— Кинокефалы. Значит, они есть на свете.
— Есть, как бог есть. Они допросили нас, рыча и лая, но мы не понимали; тогда начальник усмехнулся… в общем, осклабился или оскалился, высунув страшные клыки, и дал приказ своим, и те нас повязали и построили гуськом. Они перевели нас через гору крутой тропою, им, видимо, хорошо известной; по окончании многих часов пути мы сошли в дол, окружавший другую неприступную гору, на ней торчала крепость, над крепостью вились горластые птицы, на расстоянии казавшиеся исполинскими. Я вспомнил давний Абдулов рассказ и понял, что перед нами твердыня Алоадина.
И точно. Псиглавцы загнали их наверх по змеистым, кривым и уступчатым подъемам, выбитым в массе камня, до самого входа в укрепления, и завели в середину замка, огромного как город, где между вышками и башнями сквозили в воздухе висячие сады и променады, окруженные решетками. Их передали новым кинокефалам, новые были с бичами. Когда их гнали по коридорам, Баудолино разглядел в окно двор-колодец меж высоченными стенами, на дне которого, сгрудившись, лежали скованные юноши и мальчики, и вспомнил Абдуловы описания, как Алоадин рассылает подростков совершать злодейства, одурманив зеленым медом. Их ввели в разукрашенную залу, там на вышитых подушках восседал старец, чуть не столетний, седобородый, с черными бровями, с угрюмым взором. Живший на свете и облеченный властью еще в Абдуловы времена, тому назад полвека, Алоадин был и сейчас в силе и правил своими рабами.
Он глянул на них с презрением, явно подумал, что этих жалких людей не используешь, как молодых гашишинов. Не стал и обращаться к ним, скучливо отмахнул слугам, дескать, делайте как хотите. Заинтересовался только исхиаподом. Велел подвигаться, жестами заставил закинуть на голову ногу, потом засмеялся. Шестерых мужчин вывели, Гавагая задержали.
Так началась длительная отсидка Баудолино, Борона, Гийота, Рабби Соломона, Бойди и Поэта, в бессменных кандалах на ногах, с прикованным каменным шаром, на низких работах: то отчищать выложенные плитками пол и стены, то двигать мельничный жернов, то подносить бараньи четверти для кормления птиц рухх.
— Это были, — пояснял Баудолино Никите, — громаднейшие зверюги размером с десять орлов, с крючкастыми ярыми клювами, которыми могли за пять минут разорвать буйвола. На лапах у них вострились когти, напоминавшие ростры пиратских кораблей. Они сновали по просторной клети, посаженной на башенный шпиль, и угрожали всем и всякому, за исключением одного только евнуха, который, похоже, знал их язык и сноровисто управлялся с ними, как в обычном курятнике. Он единственный рассылал их с поручениями от Алоадина. Сперва пристраивал какой-либо из птиц на холку и спину надежные супони, просовывая их под крыльями. Потом привязывал к супоням корзину или груз, командовал, отодвигал дверку, и назначенная птица, и только эта, одна она, выскакивала в небеса и исчезала в далекой дали. Мы видели и возвращение гонцов. Евнух загонял их в клетку и принимал от них мешки или металлические трубки, содержавшие, вероятно, сообщения для местного князя.
Порою заключенные по многу дней сидели без дела. В другие дни их гоняли с евнухом распределять зеленый мед среди прикованных; ужасно было видеть лица юношей, пустые от изнурительных снов. Но и наши затворники изводились, пусть не от снов, так от скуки, и поэтому бесконечно пересказывали друг другу прошлое. Вспоминали Париж, Александрию, веселый каллиполисский рынок, славное житье у гимнософистов. Говорили о письме Пресвитера. Поэт, день ото дня мрачневший, повел речи, так совпадавшие со словами Диакона, как будто он их слышал: — Меня грызет сомнение: а существует ли это царство? Кто говорил о нем там, в Пндапетциме? Евнухи. К кому возвращались гонцы, посланные ими в царство Пресвитера? К тем же евнухам. А отправлялись ли гонцы? А возвращались ли гонцы? Диакон никогда не видел своего отца. Все то, что мы узнали, мы узнали от евнухов. А если евнухи сговорились дурачить и Диакона, и нас, и самого распоследнего нубийца или исхиапода? Порой я не знаю даже, существовали ли белые гунны… — Баудолино напоминал ему о павших в битве товарищах, однако Поэт все качал головой. Чем признавать перед собой, что разбит в бою, предпочитал уж думать, будто стал жертвой морока.
Потом, снова разбирая день смерти Фридриха, они искали объяснений необъяснимого происшествия. Виноват был Зосима, все понятно. Да нет, Зосима украл Братину, но позднее. Кто-то, желая Братину украсть, действовал сам по себе. Ардзруни? А кто докажет? Один из их погибших товарищей? Как, в нашем отъявленном несчастии, говорил Баудолино, мы еще должны друг друга истерзывать нехорошими подозрениями?
— Пока мы жили в воодушевлении, искали царство Пресвитера, нам и в голову не приходило усомниться, и каждый по-дружески помогал другому. В неволе же мы начали собачиться. В глаза друг другу не глядели. Так годы протекали в ненависти. Я жил таясь. Думал о Гипатии, но только лица вспомнить не мог, помнил лишь ту радость, которую она даровала. Среди ночей беспокойные руки тянулись в поросль, кустившуюся в промежности, и я представлял себе, будто пальцы гладят ее руно, благоухавшее мохом. Тело возбуждалось, ибо, хотя в полубреду рассудок и гас, здоровье крепло после тягот паломничества, ибо кормили нас неплохо, сколько угодно, два раза каждый день. Видимо, тем самым Алоадин, не допуская к таинствам зеленого меда, держал нас в незлобивости. Мы снова обрели силу, однако располнели, даже и будучи заняты на тяжких работах. Глядя на свой округлый живот, я повторял: «О, ты хорош, Баудолино. Так хороши вы все, вы, человеки?» затем хихикал, будто слабоумный.
Единственной отрадой были приходы Гавагая. Их преданный друг сделался шутом Алоадина. Он выплясывал коленца, скакал на побегушках по бесконечным замковым коридорам, он обучился языку сарацин и жил почти свободно. Мог приносить друзьям лакомства с господской поварни, осведомлял их обо всех событиях жизни гарнизона, о подковерной войне евнухов за милости господина, о душегубских заданиях, на которые посылали охмеленных малолеток.
Однажды он принес Баудолино зеленого меду, но малую толику, потому что опасался, как бы тот не уподобился озверелым ассассинам. Баудолино пережил ночь любви с Гипатией. Но под конец объятия у нее переменились черты: завелись тонкие, белые, нежные ноги фемины человеков, а вот голова стала козья.
Гавагай донес им, что оружие вместе с ранцами, отобрав у них, бросили в чулан, и что он сумеет все добыть, когда они станут бежать. — Как, ты в самом деле, Гавагай, думаешь, мы убежим? — спросил Баудолино. — Я, конечно, думаешь! Думаешь, есть много способов убежать. Найдешь лучший способ. Но ты толстый, как евнух. Толстому бежать трудно. Пускай ты делаешь движения тела, как делаешь я. Загибаешь на голову ногу и станешь очень проворный.