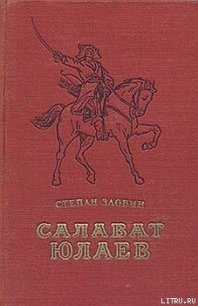Разин Степан - Чапыгин Алексей Павлович (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
– Гей, браты-ы! Бей в башнях на-а-бат!
– Батько иде-е-т!..
– Иде-ет!..
В дальнем конце города в угловой башне завыл набат, вслед набату выстрелили пять раз подряд из пушки – казацкий ясак на сдачу города.
Лазунка в Москве
1
Темно. Заскрипели на разные голоса запираемые решетки и ворота города. На Фроловской башне пробили вечерние часы; как всегда, сторожа у московских домов застучали ответно в чугунные доски. Стало мертво и тихо. Тишину нарушит лишь иногда конный боярин, окруженный слугами с огнями. Тогда по грязным улицам лоснятся желтые отблески. То протяпает, громко матерясь, волоча из грязи ноги, палач с фонарем и подорожной бумагой, да лихие люди, пятная сумрак, мелькнут кое-где, притаясь, выслеживая мутный блеск бердышей конной стражи проезжающих стрельцов. Только за Яузой шумит, поет и светит огнем Немецкая слобода; там военные немчины гуляют, справляют свадьбы и, как говорят иные москвичи, «кукуют песни»…
В верхнюю горницу, сумрачно светившую образами в лампадах, старик слуга ввел человека, смело ступавшего желтыми сапогами, обросшего курчавой бородой и волосами, падающими до плеч. Человек без сабли, но сабля скрыта длинным казацким жупаном, за кушаком пистолеты, из-под синего жупана при движении видны красные полы.
– Воззрись, матушка боярыня! Поди, чай, не признаешь?
– Ой, спужал! И как тебе, старому, не грех, на ночь глядя, волокчись прямо ко мне на женскую половину, да еще мужика чужого за собой тянуть?
– Чужой ли? Величаешь меня косоглазым, а я, вишь, прямо гляжу.
– Уж с кем это? Дай-ко, дай!
Близорукая полная старушка в летнем шугае шелковом, в кике без очелья [310], подошла вплотную к гостю. Гость выдвинулся вперед. Слуга встал, сняв шапку, у двери.
– Батюшка! Свет Микола-угодник, да ведь это Лазунка?
Старушка кинулась на шею волосатому человеку.
Верный слуга старый сказал:
– Ты, мать боярыня, поопасись!
– Чего такого, Митрофаныч?
– Вишь, сказывают люди – признан гость наш давно в нетях [311] от государевой службы… Не один раз про то сама слыхала…
– Слышала! Немало люди с зависти на других лают.
Лазунка, обнимая старуху, спросил:
– Поздорову ли живешь, матушка?
– А всяко есть, сынок! Ты, Митрофаныч, поди – спасибо!
– Пойду, мать, и молчать буду, благо в дому у нас холопей – я да сторож Кашка!
Слуга ушел.
В другой горенке с открытой дверью разговаривали. Видны были в глубине ее, у окна, где на подоконнике горели, отсвечивая в слюдяных узорах рам, три шандала масляных, – две девушки: одна русоволосая, другая с черной длинной косой. Девицы рылись в сундуках, обитых по углам цветной жестью.
– Ты рухледь скинь лишнюю, сынок!
Лазунка кинул жупан с шапкой на лавку под окна. Под жупаном на нем красная бархатная чуга, тканная золотом, с цветами, казацкая шапка опушена соболем, с рудо-желтым верхом. Рукоять казацкой недлинной сабли без крыжа блестела алмазами. Старуха подержала шапку в руках, оглядела чугу.
– Дитятко! Да тебе хоть на смотры государевы – рухледь-то, эво! Нуга злащена, сабле и цены нет. – Взяла его за плечи и, снизу вверх глядя Лазунке в лицо, заговорила тихим голосом:
– Нынче, милой, все вызовы воински заводит великий государь-от: дворяна, жильцы большие со всех городов идут на Москву конны, оружны, в пансырях, в бехтерцах… [312] Вишь, вор, сказывают, убоец лихой, на Волге объявился, города палит, воевод бьет, гонит, зорит церкви божий. И нынь по Москве всякому ходить опас от сыскных людей, рыщут – всякой люд в Разбойной что ни день тянут… И народ худой стал! Тягло прискучило, мятется, по посадам собираются, а судят неладное: «Налогу-де тягло время сошло кинуть». Имя-от, вишь, того убойца лютого с Волги не упомню…
– При чужих, матушка, ты меня сыном не зови, кличь Максимкой, будто я тебе родня дальняя… И кой словом закинет, говори: «Приехал-де свойственник, боярской сын беспоместной, на государеву службу против Стеньки Разина».
– Стеньки! Стеньки – вот я и упомнила… Годи-ка, свечу запалю, при божьем-то огоньке сумеречно… Да еще одного в ум не возьму, пошто таишься?
– Митрофаныч тебе о том слухе верно сказал…
– Ой, страшишь меня, старую! Ужли тем худым вестям веру дать? А корили злые суседи изменничьей маткой и сказывали: будто бы на Волге были с саратовским хлебом, да кои люди еще были с патриаршими монахи – их воры побили, а ты-де к ворам сшел!
– Потом, матушка, обскажу… Вот ясти дай, да та горница, или – как ее – клеть на подклети, цела ли?
– Как, храни бог, не цела! Куда ей деться?
– Там ко сну наладь… На Москве быть недолго… Гляну на тебя да про невесту, Афимьюшку, у тебя спрошу и, коль что, уеду скоро…
– Куда ты, родненький? О невесте твоей говорить нече – ушла! И обидна я была на твою Фимушку: обносчикам всяким вняла, тебя так попрекать зачала, лаяла вором…
– Должно, так сошлось… Нашла, вишь, пригожее.
– Ой ты, дитятко, – пригожее. А богаче нас и родовитее… И уж истинно, как твои послуги будут у великого государя да жалованье, а то мы тощи… Сестрицу вот, поди, худо помнишь – махонька была, нынче просватали… Вот я ее созову.
– Пока что не зови, с тобой побуду.
– Ино ладно! С девкой роют приданое, – должно, не перебрали, а кончат перебор – выйдут да огонь принесут.
– Сестрице тоже сказывай, будто я чужой.
– Дивлюсь, дивлюсь… Ладно, что от скудости нашей прожиточные люди не бегут. Дарьюшку с рук снимают, не брезгуют… Отец-то жениха – гость гостиной сотни, а дворянство наше захудалое. Да, вишь, и патриарший двор нынче иной, патриарха Никона свели бояре, он кое и сам сошел… Судили, расстригли, да на Белоозеро послали… Теперича другой патриарх – Иоаким святейший… Да что я держу тебя голодом? Маришка!
– Не надо звать! Управься, матушка, сама…
– А и то. Послужу на радостях сама, да, вишь, радость-то недолгая…
Старушка засуетилась, сбегала куда-то, вернулась, принесла луженую братину.
– Тут мед инбирной, хмельной.
– Добро, родная моя!
– Еще калачи есть да холодная баранина, ветчина да брага есть.
Ушла и снова вернулась с едой.
– Все-то ум мне мутит… Ужли, сынок, худому поверить надо? Я мекала, ты на свадьбе в столы сядешь, поживешь, да, вижу, не столовщик?
– Время мало! Уйдет девка – с Дарьюшкой погляжусь… Была-таки мала, невеста нынче – идет время! Она меня забыла, пущай не знает. Я же, родная, буду ей как брат.
– Худо, сынок! Должно, и впрямь есть за тобой неладное.
– Скажу потом…
– Кушай, кушай вволю!
– При девке тоже не забудь: зови Максимкой. Скажи, из Ярославля, по ратному зову.
– Скажу уж! Скажу…
Боярышня с дворовой девицей вышли из другой половины, принесли, поставили пылающие фитилями шандалы на стол.
– Неладно, матушка! Гляди, будет охул на меня, что какой-то чужой молодой боярин ли, сын боярской в горенке ночью…
– То, доченька, родня из Ярославля, Максимом зовут, дяди Ивана сын. А пустила сюда, что иные горницы холодные да не прибраны. Мы скоро уйдем, бахвалить же ему некогда… Ты, Маришка, иди, да слов не распускай: я дочь свою строго держу.
Дворовая девица поклонилась и, боком, любопытно оглядывая Лазунку, вышла.
– Сядь-ко, Дарьюшка! Молодец-от – родня тебе, да и надобной: от брата Лазунки из дальних городов здравьицо привез с поклоном.
– И поминки тож! – Лазунка встал, порылся в глубоких карманах жупана казацкого, вытащил золотую цепочку с двумя перстями золотыми в алмазах. – Вот от брата!
Боярышня поглядела на подарок, лицо вспыхнуло.
– Ох, и хороши же! Я, матушка, велю попу Ивану то в мою приданую роспись приписать.
– А куда же? Не мне краситься ими.
310
Очелье – перед кики (кокошника), в праздники привязывалось отдельно с жемчугами.
311
Дезертир (из помещиков).
312
Доспехи из железных пластин.