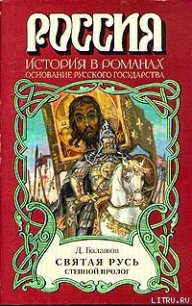Святая Русь. Книга 3 - Балашов Дмитрий Михайлович (первая книга txt) 📗
Епифаний пробрался наконец к воротам Чудовой обители, взошел вместе с толпою нищих калек на монастырский двор, проминовал двух братии, что разливали убогим дымящую паром похлебку в подставляемые медные и деревянные тарели и мисы, и те ели тут же, на дворе, присев на завалинку, кто на корточки. Безногий слепец тыкался среди прочих, и кто-то, пожалевши наконец убогого, подволок его за руку к раздаче, помог налить в протянутую миску горячего хлебова, которое слепец тут же и начал поглощать, трясущимися руками поднеся медную посудину к самому рту. Ложки у него, видно, не было вовсе.
Не задерживаясь и тут, Епифаний обогнул поваренную клеть, где, уже у самого храма, его остановил иной монашек, вопросивший строго: куда и к кому он?
— К знакомцу своему, епископу Пермскому Стефану бреду, брате! — возвестил Епифаний, и монашек, недоверчиво смерив его взором от надвинутой на глаза шапки до кожаных лаптей, отступил посторонь.
Пришлось еще потыкаться, поискать, пока наконец ему указали келейный покой, в коем пребывал приезжий епископ. И опять пришлось сказать, кто он и откуда грядет. Вся эта волокита несколько приглушила Епифаньеву радость, и у дверей надобного покоя, мягко, но властно отстранивши придверника, бормотавшего что-то о болезни пермского владыки, Епифаний приодержался, собирая в себе прежнее радостное нетерпение, и постучал. Голос, раздавшийся из-за двери, был и вправду недужен и хрипл. Епифаний, скинувший вотол и шапку в сенях, взошел, еще плохо видя с уличного солнца в полутьме покоя, что тут и как. Болящий первым признал гостя, приподнявшись на ложе, воскликнул:
— Епифание! — И махнул рукою придвернику, взошедшему следом за гостем: — выйди, мол, не мешай!
Они обнялись, троекратно облобызавши друг друга.
Стефан осторожно опустил на пол ноги в вязаных толстых носках, прокашлял.
— В нутре у меня, — высказал, — нехорошо! Порою и не вздохнуть, воздуху не стало хватать. Умру скоро, Епифание! Чую, Сергий зовет за собой!
На уставные утешения друга только махнул рукой:
— Смерти не боюсь! На кого только чад своих оставляю?
Он проковылял к столу, и Епифаний в скудном свете, льющемся в крохотное оконце, с горем рассмотрел зримые следы быстрого увядания на лице друга молодости своей: седину и прозелень потусклых, посекшихся волос, глубокие морщины чела, неотмирность когда-то ясного, блистающего взора, и сгорбленную спину, и подрагивающие руки, напомнившие ему руки давешнего слепца, принимающего ощупью миску с варевом.
Стефан походя тронул подвешенную медную тарель. Придверник подал на стол квас, хлеб и рыбу.
Епифаний потянул носом, поднял на Стефана недоуменный взор. От нарезанной сиговины шел невыносимый смрад.
— Кислая рыбка! Подарок! С собою привез! — пояснил Стефан после молитвы. — Гребуешь? Ты, когда в рот берешь, зажми нос-то, не вдыхай! На вкус-то она нежна, што твой кисель! А я — привык! Тамо у нас таковую все едят — и зыряне, и вогулы, и русичи.
Епифаний, поборовши неприязнь, откусил кусок и взаправду, коли б не тяжкий дух, нежной и довольно вкусной рыбы, поскорее закусив куском хлеба и запивши квасом.
— Не мучайся, ежели не по нраву! — с улыбкою возразил Стефан. — Вон у меня, принесли давеча, снеток с Белоозера, вялый. Бери!
Проголодавшийся Епифаний ел хлеб, кидал щепотью в рот похрустывающих, скукоженных снетков, отпивал квас, опасливо поглядывая на то, как Стефан с видимым удовольствием поглощает «кислую» рыбку.
Разговор долго не налаживался, они оба заметно отвыкли друг от друга. Повспоминали Сергия, потолковали о новом игумене Маковецком, Никоне. Стефан продолжительно и ворчливо жаловался на местные трудноты (никогда ранее Стефан Храп не позволял себе жаловаться на что-либо), сказывал о набегах вогулов, о недороде, о том, как упросил покойного князя Дмитрия содеять снисхождение, свободить на год от налогов оголодавшую свою новообращенную паству, как выпрашивал помочь в Новгороде Великом на вечевом сходе, как тут, на Москве, добивался обуздания воевод и дьяков, что бессовестно грабили зырян, наживаясь на их простоте и безответности, как отговаривал вятчан вселяться в зырянскую землю, помянул и укрощенного им разбойника Айку… На вопрос Епифания перечислил, загибая пальцы, свои переводы на зырянский язык: часослов, псалтырь, избранные чтения из Евангелия и Апостола, паремии, стихирарь, октоих, литургию и ряд праздничных служб, а также заупокойную службу, Евангелие от Луки… Стефан закашлял опять, задыхаясь, долго справлялся с собою, после махнул рукой: «И много чего! » Епифаний глядел на него, поражаясь в душе огромности того, что успел совершить сей муж в бурной и многотрудной жизни своей, в которой, казалось бы, вовсе было недосуг ученым занятиям келейным!
— Умру, ризы мои и книги пусть отвезут назад, на Усть-Вымь, в Архангельскую обитель! Там они нужнее! Я уж повестил о том келарю, — ворчливо домолвил Стефан и замолк, передыхая. Глаза его, уставленные в ничто, поголубели, и в них отразились вновь далекие дикие Палестины, где он сражался и побеждал, неутомимо проповедуя слово Божие.
— А помнишь Григорьевский затвор и как мы с тобою спорили о многих азбуках иноземных? — вопросил Епифаний. Глаза пермского епископа потеплели, губы чуть сморщились при воспоминании о том, юном времени, о дерзких шалостях школяров, почасту трунивших над учителями своими. Какой-то ледок, стоявший меж ними до сих пор, сломался наконец, и оба начали вспоминать юность и знакомцев, иные из коих были уже в могиле.
— Петровским постом получил грамотку от Афанасия! Из Цареграда! — сообщил Епифаний.
— Не ладитце в Русь?
— Нет, видно, и умрет тамо, в теплом краю! Иконы шлет сюда, книги… А ты еще не забыл греческую молвь?
Стефан, усмехнув, легко перешел на греческий, и Епифанию пришлось усилиться, дабы поспевать про себя переводить сказанное на русский салтык и готовить ответ по-гречески.
— Вижу, не забыл! — сдался он наконец, вновь переходя на русский, и, помолчав, повестил другу, зарозовев от смущения: — Весною в Константинополь еду, Киприан посылает к патриарху, так вот… Потому…
Стефан легко кивнул. Весть, столь важная Епифанию, мало задела его. Сказал только, перемолчав:
— Когда-то и я мечтал побывать тамо! Да не судьба! А ныне и не жалею о том: каждому из нас свой крест даден и поприще свое, его же указал Господь!
И, устыдившись в душе, Епифаний помыслил, сколь многое совершил Храп и сколь малое он сам за те же самые протекшие годы. И еще о том, что истинно великое достигается всегда ценою отречения от самого себя, от телесных страстей, немощей и мелких похотений своих.
Епифаний обратился к тому, что было у всех на устах: захвату Витовтом Смоленска и дальнейшей судьбе страны.
— Витовт полагает себя бессмертным! — медленно возразил Стефан. — Решать будет не он, а Господь! Навряд литвинам, да и ляхам тоже удастся удержать в подчинении православный народ! А посему строит он храмину свою на песце! Отрекшись православия, Витовт и Великую Литву осудил на распад и гибель. Вера скрепляет, но она же и полагает пределы властителям!
— Но он подчиняет себе одно русское княжество за другим! В конце концов православная Византия так же вот была съедена бесерменами: сперва арабами и турками ныне!
Стефан упрямо покачал головою:
— Греки устали жить! Приедешь, увидишь сам! — высказал. — Если народ теряет землю отцов своих, это первый знак того, что сей народ устал жить на земле.
— Но Василий Дмитрич?..
— Князя не суди! — строго остановил Епифания Храп. — Возможно, он и виноват во многом. Правители постоянно забывают, что земля принадлежит не им, а Господу! Но не нам судить помазанника Божья, коего осудит Высший судия! Нам надлежит со всем тщанием свершать труд свой, завещанный от Господа. А Смоленск… Когда русичи поймут, что это та же русская земля, ничто, ни мужество воевод, ни крепкие стены не помогут Литве удержать город!
«Сохранятся ли, не погибнут ли в пучине времен труды мужа сего? »