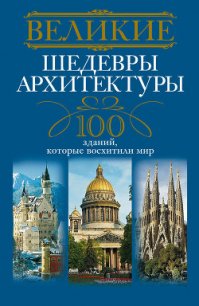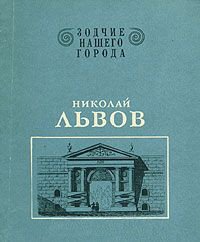Собор - Измайлова Ирина Александровна (е книги TXT) 📗
— Чего, мсье? — удивленно спросила она.
— Я не хочу слышать об этом человеке! Какие у него глаза, я видел, но они мне безразличны!
С этими словами Огюст вскочил со своего места, залпом допил вино и, обойдя столик, остановился прямо против хозяйки. Его лицо пылало.
— Что с вами? — казалось, Ирина и впрямь не поняла, чем вызван его порыв. — Я… Что я такого сказала?
— Вы сказали, что любили его, а я не хочу этого слышать!
— Но почему?
— Потому, что вы, Ирен, свели меня с ума! Потому, что я не хочу и не могу представить вас в объятиях другого! Потому, что мне хочется сейчас делать то, что делают эти две наглые розы!
Говоря так, он стремительно опустился на колени возле ее софы, склонился к ее груди и, отодвинув ароматные бутоны, прижался губами к шелковистой коже, к маленькой впадинке, полускрытой вырезом платья.
В первое мгновение Ирина будто окаменела, позволив ему надолго приникнуть к ней, потом вдруг тихо вскрикнула и, обвив его голову руками, окунула лицо в его волосы, покрывая их поцелуями.
Он вскинул на нее глаза и спросил чуть слышно:
— Ирен, ведь это правда? Вы не были его любовницей? Нет?
— Нет, Огюст, клянусь вам. Я была замужем ровно две недели, потом мой муж умер — вы это знаете. И с тех пор никто и никогда не был моим любовником… Никто и никогда. И я люблю вас, Огюст!
В эту минуту Монферрану показалось, что он безумно счастлив…
XVI
На другой день, вернувшись вечером из Комиссии построения, он сообщил своим домашним, что его высочайшим повелением отсылают в Москву.
— Для чего это? — удивилась Элиза.
Он развел руками:
— Я и сам бы хотел знать толком, какого черта меня туда тянут. Что-то там случилось с фундаментом Ивана Великого, трещины какие-то… Собирают комиссию, да как спешно! Я утром прямо и еду, на почтовых, чтоб за три дня добраться… И там буду дня три. Не понимаю, какой осел убедил государя, что именно я там надобен?
— Август Августович, я с вами поеду, — сказал Алексей, который во время этого разговора сидел в стороне, возле камина, но разговор слушал очень внимательно.
Впервые в жизни он не просил, даже не настаивал, он твердо изъявил свое намерение. Огюст взглянул на него и испугался выражения его лица: он слишком хорошо знал эту сверхъестественную Алешину интуицию.
— Не выйдет, сударь мой, — возразил он, сумев не выдать ни испуга, ни раздражения. — У меня для тебя здесь дела найдутся. Я тебе письмо оставлю для одного подрядчика, встретишься с ним. И потом, кто ж будет наблюдать за работами здесь-то, в доме? Я же, ничего не зная, с рабочими договорился, что должны нам лестницу перестраивать, — не нарушать же договор! Словом, ты останешься.
Алексей бросил на хозяина короткий, но очень выразительный взгляд, пожал плечами и проговорил свою обычную фразу, в которой на этот раз прозвучала глухая горечь:
— Воля ваша…
На другое утро Монферран уехал, уехал с рассветом, наспех проглотив чашку кофе. К полудню почтовая карета уже домчала его до Петергофа, а через час наемный экипаж подъезжал к имению Суворово…
Он выскочил из кареты, не помня себя, охваченный дрожью и страхом, что позапрошлый вечер приснился ему, что чуда не произошло, что он сейчас проснется… И тут на дорожке между бело-золотых берез показалась женская фигура, стремительно бегущая ему навстречу. И он тоже побежал и с разбега обнял ее, задыхающуюся, смеющуюся.
— Приехал! — прошептала Ирина, — приехал… Спасибо, дорогой мой! Спасибо!
И дальше началось колдовство. Дни и ночи перестали быть днями и ночами. Время остановилось…
Огюст был изумлен, поняв с какой силой, с какой отвагой и самозабвением душа Ирины, такая суровая и аскетичная, раскрылась для любви. Эта женщина, которая пятнадцать лет любила мечту, свою фантазию и от этого страдала и жила этим выдуманным страданием; эта наивная идеалистка с жестким мужским умом, эта искательница приключений с натурой и амазонки и монахини одновременно — эта женщина вся будто воспламенилась, расцвела, вся растворилась в своей вдохновенной и окрыленной любви, чистой и непосредственной, как чувство Джульетты.
Любовь преобразила Ирину. Исчезла ее угловатость, пропала резкость движений, в самом ее поведении появилась та неуловимая женственность, без которой самое прекрасное создание кажется грубым. Даже шутить и смеяться она стала мягче, а во взгляде ее, в ее улыбке сквозила теперь светлая благодарная нежность, покорность и внимание. Она научилась долго и томно молчать, слушая биение его сердца, проникая всем своим существом в его существо, наслаждаясь им как единственным благом. Во время их долгих прогулок по облетающему лесу она собирала пестрые листья, плела себе и ему огненные венки и слушала бесконечные рассказы своего спутника или сама рассказывала ему свои приключения либо дивные старые сказки, которые знала с детства. Вечером в гостиной или в спальне при зажженных свечах она пленительно шалила, вызывая его на самые забавные проказы, и он, к своему удивлению, понимал, что эти шалости тридцатидвухлетней женщины не удивляют и не раздражают его, а напротив, зажигают, пьянят, возвращая легкость и беззаботность.
Ирина вся открылась перед ним, в ней не было той заманчивой вечной загадки, которую он до сих пор пытался разгадать в Элизе, но зато здесь была неудержимая свежая страсть, непривычная, дерзкая, и согревающий огонек тщеславия: он сознавал и видел, что у этой смелой и сильной тигрицы, которой наверняка желали обладать многие, он — по сути дела и первый, и единственный.
Так прошли девять дней.
Потом он опомнился и понял, что надо возвращаться в Петербург.
— Как только смогу опять вырвать несколько дней, я тебе напишу, — сказал он Ирине, спокойно выслушавшей его слова об отъезде. — Ты ведь будешь в Петербурге, да?
Она улыбнулась и, подойдя к нему сзади (он в это время сидел в кресле с чашкой чая), поцеловала его затылок.
— Я буду в Петербурге, — сказала она, — но только… только, знаешь, Огюст, больше мы сюда не поедем.
Эти слова прозвучали для него как гром среди ясного неба.
— О, боже мой! Почему?!
— Прости меня, пожалуйста, — она уселась против него и взяла его руку, нежно играя его пальцами. — Прости, я не хотела говорить тебе сразу… Все время так жить я не смогу. Я не хочу, чтоб мы с тобой скрывались, лгали, обманывали. Я тебя люблю, и если не могу быть с тобой всегда, то и красть тебя на время не стану. Хватит, что уже раз украла. Но в этом единственном преступлении я не могла себе отказать!
Ее светло-карие чистые глаза смотрели ему в лицо ласково и печально, и он понял, что не сможет ее переубедить. Вместе с тем его больно обожгла мысль о том, что она его прогоняет.
— Чего ты хочешь? — тихо спросил он.
— Ничего, — ответила Ирина серьезно. — Хочу тебе счастья.
— Но я не могу и не хочу расставаться с тобой! — капризно произнес архитектор, привлекая к себе молодую женщину. — Ты стала мне нужна, Ирен, понимаешь?
— Тогда выбирай, — совсем тихо прошептала она.
— Но, послушай… — он растерянно гладил ее волосы, пытаясь придумать выход и теряясь все больше. — Послушай, я не могу так… Я ничего и никого не боюсь, но… Моя жена — ближайший мой друг, самый близкий, самый верный. Дело даже не в том, что я ей обязан жизнью, еще бог знает чем… Дело в том, что есть связи, которых уже нельзя рвать! Пойми же меня, Ирен, пойми!
— Я понимаю, — мягко сказала Ирина Николаевна и улыбнулась, но теперь в ее глазах блеснули слезы. — Ты ее любишь. Я гадко поступила, ну что же… и поделом мне. Но теперь вернись к ней, Огюст. Вернись и поминай меня добром. Хорошо? Прощай.
Она встала, собираясь уйти с террасы, где они, несмотря на прохладное утро, пили чай.
Огюст вскочил:
— Нет, постой! Постой, так же нельзя… Не торопи меня, не заставляй рубить сплеча. Дай мне подумать. Ты стала мне слишком дорога, слишком. Я не хочу тебя терять! Я двадцать пять лет не влюблялся, черт возьми… Дай мне подумать, а?