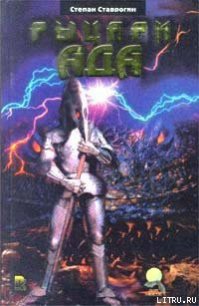Салават Юлаев - Злобин Степан Павлович (полные книги .txt) 📗
Салават внезапно чихнул. Боль сотрясла искалеченное рубцами тело и вызвала слабый стон из груди Салавата. Он привычным движением очистил нос и вдруг ощутил, что нос его цел. Ноздри не вырваны… Пальцы его задрожали. Не веря себе, он ощупывал собственное лицо, лоб, мял и щипал себя за нос и за щеки, чтобы проверить, есть ли раны. Он не нашёл их, и от сознания, что он ещё не клеймённый, его охватила внезапная дрожь лихорадки…
Он вдруг услышал, что за окном каземата шумит осенний ветер с дождём, почувствовал влажность соломенной подстилки, на которой лежал, вспомнил знакомые лица согнанных к месту последний казни башкир и русских, чей-то бодрящий голос, который несколько раз повторял в толпе: «Пока живы друзья, они не забудут друга».
— Они не забудут друга, — произнёс Салават и услышал свой голос, как будто чужой, произнёсший эти слова. — Не забудут! — вдруг почему-то уверенно, твёрдо повторил он ещё раз, и сердце его забилось быстрее, грудь защемило радостною тоской. Он почувствовал голод и жажду жизни…
В окошке каземата забрезжил свет, по коридорам подвала зазвучали шаги солдат, зазвенели цепи колодников, послышался утренний шорох метлы, хлопанье тяжёлых дверей, окрики…
Наташа в самом деле прислала ему горячего молока. Салават с жадностью выпил его, чувствуя, как тепло разлилось по всему телу.
Он позабыл о боли, терзающей спину, он не слыхал нудных, томительных шумов магистратского арестантского подземелья и заснул спокойным, бодрящим сном, свободным от бреда и сновидений, вливающим силы в сердце…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Стоял сентябрь с шумным ночным буйством листопада. Осенний ветер с дождями тревожили арестанта. Надежда на жизнь и свободу крепла в нём с каждым днём, и оттого силы его восстанавливались быстрее.
Когда в первый раз после нескольких дней Салават осилил подняться с соломы и дотянулся выглянуть в окно, он был удивлён, что перед ним не двор магистрата, а, как вначале, широкая магистратская площадь, полная всяким проезжим людом. В это время глянуло сентябрьское яркое солнце из туч, и Салават распахнул окошко… Перед окном стоял часовой, тот самый, старый-старый солдат Ефим Чудинов, который его караулил так много дней. И, глядя на солнце, на площадь, на знакомое доброе лицо старого солдата, на пожелтелые листья, кружившиеся по ветру, он услыхал наверху знакомый тоненький голосок, который напевал над его окном им же сложенную и посланную через Чудинова песню, и вдруг Салават ощутил на своём лице какое-то непривычное выражение, — он почувствовал, что лицо его стало каким-то иным, не таким, как всё это время, он даже коснулся в недоумении пальцами уголков своего рта и понял сам, что за долгие месяцы он в первый раз улыбался.
Салават жадно глядел на площадь перед зданием магистрата. Понурые лошадёнки русских, запряжённые в телеги, из которых торчала золотая солома, на высоких колёсах короткие тележки башкир, добрые верховые лошадки с подушками, прилаженными на седла, глухой многоголосый говор пёстрой толпы, даже бездомные собачонки, сновавшие между телег в ожидании пинка или случайной подачки, — все возбуждало его, все радовало глаз проявлением жизни.
И вдруг любопытный, живой взор юноши заметил одинокого неподвижного человека, который стоял на одном месте, под широкою, нынче полуопавшею липой против самого окна Салавата. Он не отличался ничем от десятков людей, бывших на площади, только упорная неподвижность и взор его, устремлённый на железную решётку окна, заставили Салавата пристально вглядеться в его лицо. И Салават узнал его — это был Нур-Камиль из отряда Кинзи. Немолодой, тучный, широкоплечий, в лисьей шапке, стоял он так близко и вместе с тем так далеко, что сказанное слово не могло долететь до его слуха.
Салавату припомнился голос, который сказал в Ельдяке эти слова о друзьях, не забывающих друга, и понял, что это сказал тогда Нур-Камиль.
За вынутым кирпичом в углу каземата оставались чернила, перо и бумага. Салават мог бы писать день и ночь им, верным друзьям, но он написал всего несколько самых сухих и коротких слов, написал и осторожно окликнул Чудинова. Солдат удивлённо взглянул на него, остерегая его в то же время движением седых бровей.
— Смотри, там под липкой стоит в лисьей шапке башкирец, мой дядя. Я совсем обносился, лохмотья одни, — сказал Салават. — В каземате ведь холод… Я брошу письмо, а ты дяде отдай. Он мне привезёт одёжки, харчишка, деньжонок… Тебя не забуду…
Такие услуги со стороны солдат в отношении арестантов были не новость, не редкость. К тюремному жалованью было не грех прибавить полтину на табачок и на водку.
Солдат ничего не ответил, он даже отвёл глаза в сторону. Салават швырнул ему под ноги туго свёрнутую записку, и Чудинов будто совсем невзначай наступил на неё сапогом.
Сменившись с поста, Чудинов стал шарить в толпе башкирина в лисьей шапке, но тот куда-то пропал. Старый солдат хотел уже идти домой, как вдруг на крыльце магистрата увидел башкирскую лисью шапку и радостно кинулся к ней…
На другой день Чудинова арестовали. Башкирец в лисьей шапке, которому он отдал письмо, оказался не Нур-Камилем. Это был посланный генерала Фреймана, который привёз пакет воеводе. Он же отдал воеводе и письмо Салавата, в котором было написано не об «одёжке», а о присылке пилы.
В каземат ворвались солдаты. Они не нашли ни чернил, ни пера, ни бумаги, но Салавата избили.
— Грамотный, сукин ты сын! Письма писать затеял?! Пилу тебе надо, собака!.. — тыча носками сапог Салавату в бока и в лицо, ударяя его каблуками, кричал на него тюремный смотритель. — Грамотный, дьявол! Солдата ты мне погубил! Дурака за тебя кнутом теперь до смерти задерут. Тебе всё равно уже на каторгу, а русского дурака ты за что погубил?.. Отвечай мне, поганец, кто дал чернилу с бумагой? Кто дал? Отколе ты взял?! — допрашивал Колокольцев.
Избитого Салавата снова перевели в каземат, выходивший во двор окнами. Но страсть к свободе настолько вошла в его душу и сердце, в плоть и кровь, что Салават не смирялся… Он бунтовал день и ночь и не мог поверить в жестокость своей судьбы. Ночью, под шум дождя, вскакивал Салават со своей подстилки; ему казалось, что желание свободы прибавило ему сил, он хватался за решётки в окне, дёргал их и старался как-нибудь расшатать. Гнойные струпья, бывшие на спине его, лопались от натуги, но Салават не чувствовал никакой боли. Иногда казалось ему, что кирпичи стены подались под его напором, ликующий крик готов был вырваться из его горла… Но часовой, заметив его, снаружи стучал в окно, и Салават валился без сил на солому, томлением и тоской провожая бессонный, мучительно медленный осенний рассвет…
«Может быть, Нур-Камиль не попался с этим письмом? — иногда мелькала надежда у Салавата. — Может быть, ходит он возле тюрьмы, ожидая удобного часа?!»
И вдруг Третьяков, принеся Салавату две пары новых портянок и две пары лаптей, хмуро сказал:
— В дорогу сбираться!
И тихо, совсем беззвучно, по-башкирски добавил:
— Дорога хорошая будет… Нур-Камиль говорит…
Третьяков ушёл, хлопнув дверью, а Салават так и сидел, не выпуская из рук новых лаптей и портянок.
«Воля! Свобода!..» — пело всё его существо, словно удача побега была решена.
Однако наутро ждал Салавата новый удар. Смотритель тюрьмы сказал Третьякову, что Салавата и Юлая, прежде отправки их в каторгу, пришло распоряжение представить в провинциальную канцелярию, к воеводе.
Третьяков, растерянный, вбежал к себе в комнату, опрокинул стоявший на окошке цветочный горшок, плюхнулся на большой сундук и схватился за голову.
— Тятенька, что стряслось?! — испуганно подбежала Наташа.
— Пропал! Показнят, а не то покалечат, пропал! — растерянно шептал Третьяков.
— За что показнят? Что стряслось?! — не понимая его, добивалась дочка.
Она знала, что отец её едет в дальнюю поездку, конвоировать в каторгу Салавата с его отцом. Она даже подозревала что-то такое, о чём боялась и говорить, — подозревала какую-то сделку отца с башкирами, сделку, которая принесёт Салавату добро, и за это Наташа любила отца ещё больше. Она готовила для него в дорогу бельё, починила шубу, выбила валенки, сговорилась взять в дом свою крёстную мать на время отъезда отца. Он был всё время весел и возбуждён и вдруг прибежал в таком отчаянии…