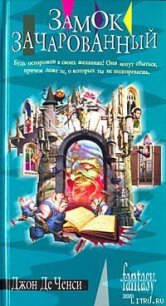Седая легенда - Короткевич Владимир Семенович (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
Роман уже два раза зацепил Кизгайлу. Оба раза мы хорошо слышали треск лат. Наконец Кизгайла изловчился и рассек шлем Ракутовичу. Рана, по-видимому, была неглубокая, но струйка крови просочилась через подшеломник и медленно поползла к правой брови Романа, закапала на железо нагрудника.
— Вот тебе и первая метка, — захохотал Кизгайла, — выхолостить бы тебя, сукина сына.
И тут Роман, сжав зубы, коротким и сильным ударом отбросил правую руку Кизгайлы в сторону.
Его сабля взметнулась и молниеносно скользнула вниз.
Мы услыхали Романов крик:
— За Ирину тебе, волкодав!
Раздался глухой удар. Тело Кизгайлы качнулось, потом медленно перевернулось в воздухе и ударилось спиной о каменные плиты.
Сабля вылетела из непослушной руки и, звеня, запрыгала по камням.
Разгоряченный боем, со слипшимися на лбу волосами, над убитым возвышался Роман. И я не заметил на его лице радости, обычной для победителя. Он протянул вперед руку и хриплым голосом бросил одно слово:
— Пить.
Стоявший рядом с серыми монахами служка торопливо сорвал с пояса баклажку и, заискивающе улыбаясь, стал наливать из нее вино в большую серебряную чару, которую вытащил из-за пазухи. Потом трусцой подбежал к Ракутовичу.
Рука Романа жадно схватила чару.
И тут Лавр снова удивил меня. Его скуластое красивое лицо стало вдруг грубоватым и холодным. Он положил руку на локоть Ракутовича:
— Не пей, господин.
— Это почему? — Роман удивленно смотрел в серые продолговатые глаза парня.
А Лавр уже перевел упрямый взгляд на одного из монахов. У того были тоже серые, холодные глаза под тяжелыми верхними веками, и он спокойно выдержал взгляд Лавра.
— Мальчик беспокоится, — с холодной насмешливой улыбкой сказал иезуит.
— Ну что же, дайте вино мне. Выпью я. Оно такое же чистое, как кровь Христова.
— Дурья голова, — с грубоватой нежностью укорил Лавра Роман. — Кто же будет шкурой рисковать? Соображать надо.
— Дайте. Дайте мне, — спокойно повторил иезуит.
— Ну нет. Ты не работал, тебе потом. — И Роман потянулся к вину.
— И все же не пей, — упрямо сказал Лавр.
Глаза его из-под длинных, как стрелы, ресниц смотрели подозрительно и зорко.
— Чепуха.
— А я говорю — не пей!
И взмахом руки выбил чару из рук Ракутовича. Пунцовая, как кровь, струйка скользнула по белоснежной шкуре коня. Звякнула чара. Расплылась по камням красная лужица.
— Ну и вздую же я тебя сейчас, — сказал Ракутович.
— И всыпь. А ихнее вино все равно нельзя пить. Никогда.
— Глупый мальчишка.
В это время большая белая хортая Кизгайлы, темноглазая и дрожащая, как пружина, подошла, стуча когтями, к всаднику и, сладко прижмурясь, лизнула лужинку языком. Потом легла, положила длинный щипец на сложенные крестом лапы и зажмурилась, вздрагивая бровями.
— Видал, — качнул головой Роман, — у пса понятия больше.
Лавр продолжал смотреть на иезуита. Потом подошел к хортой и пнул ее ногой. Та, словно ватная, осунулась на бок.
— Видал, — передразнил Лавр. — У пса понятия больше, чем у тебя, батька.
Ракутович не обратил внимания на дерзость. Он смотрел на животное, в мгновение ока убитого ядом. Потом перевел взгляд на иезуитов:
— Что же вы, святые отцы, медленного яда не взяли? Чтоб через неделю убил. Не нашлось? Кабы знали — приготовили бы?
Ресницы-стрелы Лавра сердито дрожали. Он, нахохлившись, смотрел на монахов. А иезуит улыбнулся и по-прежнему спокойно ответил:
— Да, сорвалось. Не удалось избавить этот несчастный край от лишней смуты. Но тебя ничто не убережет, Роман. При желании и в яйцо можно положить отраву.
И улыбка у него была умной, язвительно хитрой и в чем-то даже привлекательной.
Роман посмотрел на него тоже с улыбкой, которая, однако, сразу исчезла.
— Молодец.
Я не понимал, чем может окончиться эта сцена, но в это время Доминик подвел к Роману пани Любку и капуцина Феликса.
— Решай и этих сразу, батька, — мрачно сказал он.
— С бабами не воюю, — бросил Роман.
Любка смотрела на него каким-то незнакомым мне широко открытым взглядом.
— А с этим? — спросил Доминик, подталкивая Феликса.
— А что с этим? — с иронией спросил Ракутович.
— Ты, господин, разве не видишь, кто это?
— Вижу. Тихий пьяница.
Иакинф бросился к собутыльнику и захлопотал вокруг него. С рук Феликса соскользнули веревки, и капуцин широко улыбнулся.
— Ну вот, ну вот, — задыхаясь, лепетал Иакинф, — помилуй мя, господи, да и на алтарь твой тельцы.
А Роман, уже не обращая внимания, повернулся к Лавру:
— Ты прости мне мой грех. — И указал рукой на иезуитов: — Бери их. Лавр. Волка не всегда убивают, но змее размозжить голову нужно непременно.
Сурово и твердо бросил:
— На зубцы.
3
…И если жена осталась вдовой без детей, крепящих дом, — дай ей по сердцу милого на час краткий, дабы не положил бог предела дому и роду мертвого… Но не для врага дай, ибо проклянет тебя земля, и дом, и народ твой.
Поздним вечером этого дня я стоял на вахте у двери библиотеки. Этот приказ дал мне сам Роман. Пани Любка добилась через Лавра беседы с господином и вскоре должна была прийти. А караулить их должен был я, и я сообразил, что они не хотят, чтоб об этом знал кто-то из своих.
Дверь была прикрыта неплотно, и я мог видеть темный дуб стен, книги в нишах за деревянными решетками, тяжелый восьминогий стол, огромный глобус и звездную сферу, схваченную блестящими медными обручами.
Тут был покой, мир и книжная пыль.
А переведя взгляд правее, я видел в узкое окно замковый двор, костры, разложенные на плитах, вооруженных крестьян, залитых багровым жидким сиянием. Оттуда доносилась тихая и жутковатая песня о надвигающейся туче и наступающем турецком царе. И лица тех, кто пел, были задумчивые и, как всегда у поющих, красивые. Но я ведь знал, как они бывают страшны.
Песня. Огонь. Косы.
И это была жизнь.
А в библиотеке Роман говорил Лавру:
— Ну, убил. И все же так жаль дурака, как будто не сгубил он моей жизни… Вместе голубей в детстве гоняли. Угораздило же его оборотнем стать, людей мучить. И мучил, может быть, потому, что совесть была неспокойна.
— Не о том ты кручинишься, — холодно сказал Лавр. — Уж слишком ты, дядя, сердцем к бархатникам прирос.
Ракутович долго молчал. Потом вздохнул:
— И тут твоя правда. Душа разрывается. Кричал сегодня, что мужик хребет всему. И знаю, что это так. И знаю, что его правда, потому что никто так не страдает. А сердце липнет и липнет к этим. С ними скакать на коне учился, с соколами охотиться, с ними впервые напился.
— Дуришь, — непочтительно оборвал Лавр, — а они тебя на каждом шагу без вины твоей предавали. Они так и мечтают выспаться на твоей шкуре.
— Знаю. И все же, если б не были они перекати-полем, если б не переметнулась вся эта свора к Варшаве и Риму, не пошел бы я с вами. Добром бы их уговаривал быть добрыми с людьми.
— Их уговори-ишь, — протянул Лавр. — Разве что топором…
— Знаю, — сказал Роман. — Да с этим покончено. И хватит балакать.
— А Ирина? — не унимался Лавр. — Что сделали они с ней? Или, может, и ее забудешь? Закрутишь с богатой?
— Не могу забыть. Верен ей. И нет мне забытья. Иди, Лавр. Иди.
Лавр молча прошел мимо меня в комнату напротив.
Некоторое время я слышал в библиотеке только гулкие шаги. Потом увидел в щель господина: он подошел к столу и открыл книгу — не книгу, листы были слишком разные, — скорее какие-то послания и грамоты, переплетенные в общий телячий переплет.
Он читал, шевеля губами, и вдруг я услышал знакомые слова, слова восьмилетней давности из прошения белорусского народа на сейм. Все знали, кто его сложил.
И эти слова много у кого были на устах. Знал их и я.
— «Всему свету ведомо, — читал господин, — в каком был состоянии славный древний народ за несколько перед сим лет; а ныне оный, подобно возлюбленному богом народу Израильскому, с плачем о состоянии своем вопиет: се мы днесь уничиженны, паче всих живущих на земли, не имамы князя, ни вождя, ни пророка… и мятемся, как листья, по грешной земле…»