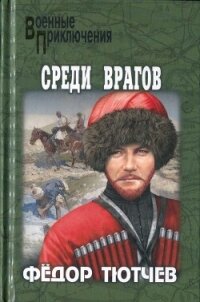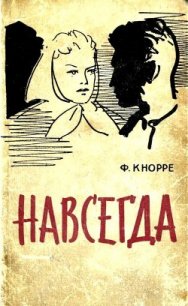На скалах и долинах Дагестана. Герои и фанатики - Тютев Фёдор Фёдорович Федор Федорович (книга регистрации .txt, .fb2) 📗
Вдруг ее настороженный слух уловил неясный шорох подкрадывающихся шагов. Кто-то сдержанно дышал за дверью. Слабо звякнул замок, дверь дрогнула и бесшумно отворилась… Струя свежего воздуха обдала пылающее тело Зины… Чья-то темная фигура, неясно вырисовывшаяся в лучах месяца, проскользнула в комнату.
Фигура осторожно перешагнула через порог и в нерешительности остановилась, вглядываясь в темноту.
Зина затаила дыхание.
Прошла долгая, томительная минута.
— Зинаида Аркадьевна, — раздался едва слышный шепот, — где вы?
Зина сразу узнала голос.
Стиснув зубы, чтобы заглушить в себе крик радости, она бросилась вперед и в неудержимом порыве, не размышляя ни о чем, повисла на шее подхватившего ее в свои объятия Спиридова.
— Петр Андреевич, Петр Андреевич, — шептала она бессознательно, крепко прижимаясь к нему всем телом.
— Зинаида Аркадьевна, — слегка дрогнувшим голосом прошептал Спиридов, — как я рад, как счастлив, но прошу вас, успокойтесь… Соберите всю силу воли… теперь предстоит самое главное дело… нельзя терять ни одной минуты драгоценного времени. Идемте за мной в чем вы есть… я вас закутаю в бурку, холодно не будет… торопитесь… У меня уже все готово, лошади ждут… Завтра об эту пору мы будем вне всякой опасности. Идемте.
Спиридов взял Зину за руку и повлек ее к выходу; она бессознательно повиновалась ему, но, сделав два-три шага, вдруг опомнилась и, с силой вырвав свою руку из руки Петра Андреевича, торопливо шагнула в глубь комнаты.
— Постойте, постойте, — зашептала она, — куда мы идем?.. А как же он, разве мы его не возьмем с собой?
— Кого? — изумился Спиридов.
— Моего ребенка! Я не могу его покинуть. Если нам нельзя бежать вдвоем, я тогда остаюсь. — Последнюю фразу она произнесла с твердой решимостью и, как бы в подтверждение своих слов, еще дальше отступила внутрь комнаты.
Спиридов последовал за ней.
— Послушайте, — заговорил он нетерпеливым тоном, — ведь это же безумие. Подумайте, ну что представляет для вас этот ребенок, разве он должен быть вам особенно дорог? Рассудите хладнокровно. Ведь он только телом ваш, а по духу чужой. Вы русская, христианка, — он мусульманин, чеченец, враг вашей веры, вашей народности. Шести лет его, по горскому обычаю, отдадут в чужую семью на воспитание. Шестнадцати лет он возвратится к вам разбойником, дикарем, непримиримым фанатиком, и если к тому времени, что, правда, трудно предположить, Кавказ не будет еще завоеван, ваш сын вместе с другими головорезами будет совершать разбойничьи набеги и, возвращаясь в аул, вытряхивать перед вами из своих дорожных сум русские головы. Что вы тогда будете чувствовать, слушая его рассказы об учиненных им зверствах над вашими земляками и единоверцами? Представьте только все это достаточно ясно и припомните свою слабость… Я понимаю, вам, конечно, тяжело, очень тяжело, но что делать? Предположите, он умер… ведь может же он умереть… Теряют же матери детей… Вспомните вашего отца, неужели вам не жаль его… Вообразите его отчаяние, когда он узнает, что вы из безотчетной любви к какому-то зверенышу, простите, ради бога, но в тех условиях, в каких вы его можете воспитать, сын ваш звереныш, — вы обрекаете вашего обожающего вас родителя на одинокую, печальную старость… Ну, полноте, не упрямьтесь… идемте, мы и так много потеряли времени. Оставьте вашего сына, пусть идет своим путем, все равно не в вашей власти воспитать его. При вас ли, без вас ли, из него выйдет все тот же дикий чеченец. Взамен его у вас могут быть другие дети, одной с вами веры, говорящие на вашем языке, горячо вас любящие, для которых вы будете матерью, священной личностью, а не проклятой гяуркой, как для этого… им вы смело будете говорить о Боге, учить молитвам, воспитывать в них любовь к родине, словом, делать все то, о чем вы не посмеете и помыслить по отношению к этому ребенку… Неужели все это не очевидно, не бьет в глаза… неужели тут еще есть место каким бы то ни было сомнениям?
Зина стояла неподвижно, словно застыв в своей позе. Спиридов начинал терять терпение. Для него колебания Зины казались простым упрямством, проявлением бессмысленной, животной любви самки к своему детенышу. Ему не только не было жаль Зины, но, напротив, в нем подымалось против нее глухое раздражение. Того чувства, которое он думал испытать при виде ее и о котором размышлял всю дорогу, он не ощутил, скорее даже наоборот. Обаяние девственности и непорочности в соединении с умом и твердой волей, которыми, как ему казалось, была оделена Зина, возвышавшие ее в глазах Спиридова в то время, когда она была еще девушкой, — исчезли. Перед ним стояла женщина, горячо узнавшая, хотя и против воли, все тайны любовных чар, загрязненная грубым прикосновением рук мужчины, чего доброго, даже и не одного, мать, имеющая ребенка, в которого она уже успела, вопреки логике и рассудку, вложить большую часть своей души и ради которого отчасти примирилась даже с своим положением, не кажущимся ей настолько ужасным, чтобы без всяких колебаний бежать без оглядки, как только отворилась дверь ее тюрьмы.
Спиридов глядел на Зину, едва различая ее во мраке, и вдруг странная, испугавшая его самого мысль промелькнула в его мозгу.
«Кто знает, может быть, она счастлива, и стоило ли так страшно рисковать, как рисковал он, чтобы вырвать ее из настоящего положения, которым она довольна? Я не раз слыхал, что для матери ребенок заменяет весь мир и примиряет со всеми ужасами… Может быть, и тут то же самое».
Чувство глухого раздражения охватило Спиридова.
«Нет, — подумал он, — этому не бывать. Я спасу ее против ее собственного желания. Не для того ставил я свою жизнь на карту, чтобы отступить перед глупым чувством разнежившейся бабенки… Я обещал ее отцу привезти к нему дочь, если только она жива, и привезу, хотя бы ценой насилия».
— Послушайте, — сурово заговорил Спиридов, шагнув к Зине и энергично схватив ее за руку, — бросьте ваши безумства. Мы не на любительском спектакле… За ваше освобождение пролито слишком много крови… все равно вам нельзя оставаться, вас убьют… Идемте, или, клянусь, я накину вам на голову бурку и силой унесу вас…
— Нет, не делайте этого, — стремительно заговорила Зина, — я тогда закричу… уверяю вас, закричу, пусть я погибну, но я не брошу своего ребенка… вы не мать, вы не можете понять моих чувств… оставить его, такого крохотного, беспомощного, одного, на чужие руки… Нет, нет, это выше моих сил… Он проснется, протянет ручки, его губы станут ловить воздух, испуганные глазки искать знакомое ему лицо, а я в это время буду скакать, трусливо думая о своем спасении? Какая мать согласится на это? И ради чего? Ради отца? Но отец стар, его страдания скоро прекратятся, другого же у меня никого нет.
— А я? — спросил Спиридов. — Вы, кажется, писали мне, что любите меня. Мое присутствие здесь, в эту минуту, не есть ли доказательство взаимности? Принесите мне в жертву чувство к вашему ребенку, я постараюсь по мере сил вознаградить вас и дать вам счастье.
Зина пристально воззрилась в лицо Спиридова:
— Зачем вы обманываете и себя, и меня, Петр Андреевич? Вы меня не любите, по крайней мере, не той любовью… Вы только жалеете меня… Из жалости ко мне вы готовы принести еще одну жертву к тем, которые вами уже принесены… Ах, зачем вы приехали…
Зачем увеличили мои страдания… Если бы вы любили меня, вы не стали бы говорить таким языком…
Протяжный, тоскливый крик совы прервал ее слова. Спиридов вздрогнул.
— Это нас зовут, пора, еще несколько минут — и мы погибли. Если нас поймают сейчас, мы умрем в страшных мучениях… Взываю к вашему сердцу, пожалейте ваших друзей. Не обрекайте их за то, что они хотели спасти вас, лютой казни. Идемте.
— Идите одни, умоляю, уходите… Зачем вы приехали! При одной мысли об опасности, которая угрожает вам, у меня мутится ум… Но не требуйте от меня невозможного… Пожалейте меня… Уходите, ради всего, всего святого молю, уходите!
Она упала перед Спиридовым на колени и умоляюще протянула к нему руки.