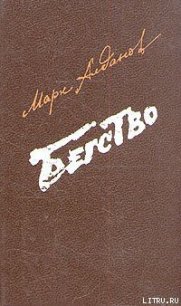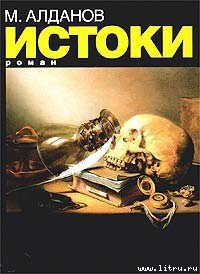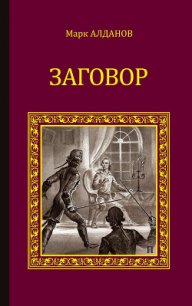Самоубийство - Алданов Марк Александрович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
— Ты очень несправедлив, — сказала Люда. — Я отошла от революции, но бубнового туза в ней не видела и не вижу.
— Именно ты не видела, потому что в ней собственно и не была. А я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора и ничего, а через несколько лет… — Он хотел было сказать Люде о гнедой лошади на Эриванской площади, но не сказал. — «Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет». Он выпил залпом бокал шампанского. — Выпей еще вина. Не хочешь?
— Не хочу, — сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой. — Так можно стать и реакционером!
— Я не стану. Реакционеров по прежнему терпеть не могу.
— Зачем уклоняться от этого разговора, уж если мы его начали? У тебя была настоящая революционная душа, и…
— Я взял эту душу напрокат у русских революционеров.
— Неправда. Правда то, что ты вечно менялся. Помнишь, ты мне читал когда-то стихи:
— Не помню, — угрюмо сказал Джамбул. — А если читал, то был дурак! Вот и встал сердитый вал! Хорош?
— Мы желали не этого.
— Так говорят все неудачники. Мы обязаны были подумать, что выйдет из наших желаний.
— Мы и думали, да другие помешали, бис бив бы их батьку, — сказала Люда.
— Теперь у вас, кажется, в моде другие стихи. Сюда недавно приехал один армянин из России. Дал мне «Двенадцать», поэму Александра Блока. Ты читала?
— Разумеется, читала. Она всех потрясла. Можно соглашаться или не соглашаться, но это гениальная вещь!
— Ровно ничего гениального! Я читал с отвращением. Блок очень талантлив, я не отрицаю. Некоторые его стихи такие, что никто другой не напишет. Но это просто звучные общедоступные частушки… Ведь есть такое русское слово «частушки»? Кто у вас теперь их в Москве пишет? Кажется, какой-то Демьян Бедный?
— Господи! Александр Блок и Демьян Бедный!
— Я их не сравниваю, хотя, может быть, и Демьян Бедный тоже «всех потряс», только читателей другого уровня, несколько менее высокого. А поверь мне, Александр Блок своих старых дев потряс только «изумительным финалом». Для этого финала вся поэма и написана, без него на нее и не обратили бы большого внимания. Разумеется, последняя фигура, которой можно бы ждать в конце такой поэмы, в компании хулиганов-убийц, это Христос. Так вот вам, на-те, изумительный финал, и какой глубокий! — с внезапным бешенством сказал Джамбул. — Отвратительно! Даже независимо от того, что он оказал огромную услугу большевикам. Хотя Ленин, верно, хохотал над его поэмой, если прочел.
— Вот и ты «хохочешь». Блок никому никакой услуги оказывать не желал!..
— Опять «не желал»! Все вы «не желаете», но делаете чорт знает что!
— Не буду спорить.. Ну, хорошо, какая же теперь у тебя душа? Мусульманская?
— Да, мусульманская.
— А может быть, ты и ее ненадолго взял напрокат?
— Нет, эту напрокат не взял, — ответил он очень раздраженно. — И не хочу я об этом говорить!
— Как знаешь, — сказала Люда, взглянув на него с испугом. — А я всё-таки не жалею, что заговорила. И не жалею, что к тебе приехала.
— Отлично сделала, что приехала, — сказал Джамбул, вспомнив долг хозяина. — Но зачем ты так скоро уезжаешь? Останься. Поживешь с нами. Я уверен, что, если ты постараешься, то тебя полюбят мои… — Ему неловко было ей сказать: «мои жены». — Право, останься.
Люда улыбнулась. Поймала себя на мысли: «Если б он не так сказал это, а так, как говорил у Пивато, вдруг я и осталась бы, с меня сталось бы!?»
— Не могу. Я обещала Ките Ноевичу вернуться к 1-ому июня. Да надо и зарабатывать хлеб насущный.
— Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать сколько угодно.
Она вспыхнула. «Мог бы теперь этого не говорить!»
— Нет, спасибо, у меня достаточно…. А ведь Кита Ноевич дал мне к тебе и порученье. Всё думает, не согласишься ли ты к ним вернуться. Должность для тебя будет и хорошая.
— Поблагодари его, но скажи, что я не принял бы и должности президента республики.
— Почему же?
— Потому, что политика — грязь. Желаю им всяческих успехов, нашим доморощенным Жоресам… О Жоресах ему, конечно, не говори… А вот я приеду туда — просто повидать родные места. Конечно, если они не погибнут. Очень часто гибнут Жоресы, такова уж их судьба.
— Когда ты приедешь? — радостно спросила Люда. — Ради Бога, приезжай поскорее.
— Не знаю, когда, — угрюмо ответил он, подавив зевок.
IV
Как ни огрубели люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие к Ласточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Леченье было в больницах бесплатным, хотя, кто мог, платил персоналу, что мог и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Всё же расходы естественно были. Негласно, по почину Травникова, образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала; но если б и догадывалась, то теперь к этому отнеслась бы почти безучастно: всё кончилось, кончились и такие огорченья. Она попросила Травникова продать остававшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе, оставил деньги у себя и платил за всё, за что нужно было платить.
Тотчас после несчастья он написал в Петербург Рейхелю. Писать Тонышевым было невозможно: письма заграницу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевича очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата возможно чаще, приложил письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать только, если врач это разрешит: «По тому, что переживаю я, могу логически заключить, в каком состоянии она!» — писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичном и расстроенном, говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутительная польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию злого или во всяком случае очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет: это только взволнует и напугает больного.
Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике «сколько понадобится». Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря, она спросила о «деревяшках», о костылях, о повозочке: «Буду сама его возить», — Скоблин сказал свое «разумеется» и вздохнул. «Как уж она, несчастная, будет возить! Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах», — подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались от того, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае. «Из экономии!»
Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними «разговаривать»; они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки: леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегченьем.
Зашла под вечер жилица их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома всё в порядке, что она за всем следит, и уходя оставила лимон, немного сахару и полфунта настоящего чаю: «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе», — сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Москве давно забыли. Еще не очень давно, после покушения Каплан, по слухам, был правительством послан заграницу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина.