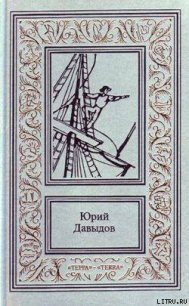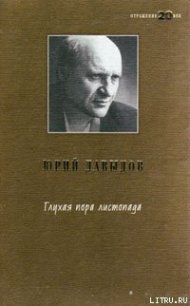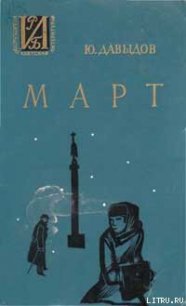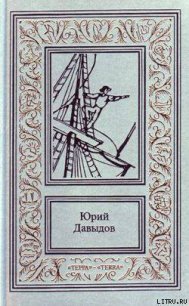Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
– Лопатин?! – всплеснула руками княжна. – Проси! Проси! – Большие серые глаза ее так и брызнули лучами. Она быстро взглянула на Тихомирова: – Э, батюшка, в лице-то ни кровинки. Поди, не проглотит нас Герман Александрович. Хоть и строг, ох строг. – Она рассмеялась, грозя Тихомирову пальцем.
Ему бы уйти, немедля уйти, а в голове мелькала такая чепуха, ерунда такая – что-то о статском советнике, о мундире и шпаге, дурацкое сожаление о том, что вот он тут в партикулярном костюмишке. И, оставаясь в совершенной растерянности, он увидел Лопатина. Тот показался огромным и могучим: легкое движение бороды – и сметет, как соринку сметет его, Тихомирова.
Глаза их встретились.
– А-а, – тускло протянул Лопатин. – Ка-акой пассаж. – И словно бы заскучал до выворота скул, но тотчас стремительно придвинулся к Марье Михайловне, весь освещенный ее лучистым взглядом.
По Сергиевской, никуда не сворачивая, по Сергиевской, в сторону Таврического сада, весь пылая, негодуя, озираясь… Проклятый д'Артаньян! Книжечки переводил да за бабами бегал! Авантюрист в душе, авантюрист по складу… Через Таврический сад, по Тверской, весь пылая, негодуя и озираясь.
У себя, затворившись, схоронившись, произнес он речь уничижительную для этого, который – «Ка акой пассаж».
«Ах, мы верны, мы верны, мы верны!» И этой верностью вы, господа, определяете высоту своей нравственности, но вам и в голову-то не приходит, что ее поверяют непреходящей тревогой: а верны ли мои убеждения? О, старые пни с младенческими мыслями, вам и невдомек, что перевороты замышляют идеалисты, осуществляют злодеи, а плоды пожинают проходимцы.
Грозя и кляня, Тихомиров торжествовал победу над Лопатиным. Но, увы, торжествовал кратко – исподволь натекал запах жареных кофейных зерен, рассыпанных под гробом одинокого мыслителя. И слышалось Тихомирову: «Надо смириться».
И все же он вернулся в редакцию «Московских ведомостей». В комнатах, похожих на кельи, горели негасимые лампадки. Но уже не было веры в то, что называл он русской Россией.
В канун девятьсот четырнадцатого стало Тихомирову спокойно и холодно: русская Россия отпела свою историческую песню.
В газете, ему враждебной, сообщалось: «Лев Тихомиров кладет отныне перо публициста. Это решение делает честь Льву Тихомирову, ибо великое множество людей, сходного с ним направления, продолжает ратоборствовать в министерских приемных, не задаваясь вопросом ни о чем великом, идеальном, всенародном. Лев Тихомиров – реакционер и консерватор, а они попросту бонапартисты. Он умер. Умер не физической, а гражданской смертью, по собственному почину, решил уничтожиться, уйти в небытие».
Физический исход в небытие хотел он принять под синим небом в золоте куполов Троице-Сергиевой лавры. Десять лет спустя его желание исполнилось. Он лег рядом с Леонтьевым.
Но это все потом.
… К старой княжне наведался Лопатин с единственной целью: теперь, когда он и все товарищи не были нумерованными и замурованными, счел необходимым отдать должное ее доброте и ласке.
Она усадила его, расспрашивала о здоровье, о вильненском житье-бытье, испуганно ахнула, услышав, что в Питер он наезжает нелегально, опять расспрашивала, глаза ее сияли. Но вместе она и робела, совсем ей была несвойственна робость, да вот и робела, мысленно подступая к тому, что давно занимало, волновало, представлялось выше сил человеческих. Она много думала о смысле евангельского: «положить душу свою за други своя», много думала, и все же… О, эту шлиссельбургскую историю она узнала от своей ненаглядной Верочки Николаевны.
Каждым из узников владело ощущение, навеянное репродукцией с картины Верещагина. Забытый солдат стоит среди утесов Шипки; буран, ни зги; замерзает часовой, погружаясь в смертный сон, а смены нет. И мнилось в казематах: там, за стенами крепости, все сгинуло, ничего, кроме бесконечной глухой метели. И вдруг в девятьсот первом словно из бездны метеорит – Карпович. Петр Владимирович Карпович решил отомстить за всех забастовщиков – студентов, уволенных, изгнанных – и казнил министра просвещения Боголепова…
Карпович принес благую весть: не замерло, не сгинуло – возникло на воле рабочее движение, прокатываются на воле стачки. Предрекая близость революции, он воскрешал шлиссельбуржцев наскоро исписанными клочками бумаги, оставленными под камнем в прогулочном тюремном дворике. Но сам он… Его велено было заточить согласно правилам, установленным еще в начале царствования Александра Третьего: ни малейших послаблений, ничего из того, что старые узники выдрали кровью, самоубийствами, протестами, голодовками, – ни книг, ни писем, ни занятий ремеслом или огородничеством, ни общих прогулок, ничего, то есть так, как все они, «коренные», тянули долгие годы. И тюрьма притаила дыхание. Совесть повелевала: добейся для новичка равенства. Увы, ни у кого не нашлось ни сил душевных, ни сил телесных. И лишь один изо всех, лишь нумер двадцать седьмой: до тех пор, пока Карпович не будет отбывать срок заточения в тех же условиях, как и я, как и все остальные, до тех пор не выйду из каземата, отказываюсь от книг, писем, прогулок… И Лопатин сдержал слово – он держал его полтора года.
Старая княжна хотела постичь, из каких глубин почерпнул он, безбожник, атеист, и силы душевные, и силы телесные? Но княжна робела – не ровен час, сочтет праздным, дамским любопытством… Робея, все же спросила. А этот безбожник, этот насмешник, этот совсем нестрашный Лопатин просто-напросто руками развел:
– Ну-у, Марья Михайловна, не мог же я по-другому. – И рассмеялся: – А нервы, прах их возьми, измочалил.
– Герман Александрович… – Ее голос пресекался. – Я вам… Я товарищам вашим… Как объяснить?.. Вот Моисей хотел вблизи увидеть неопалимую купину, куст несгораемый, а бог – Моисею: «Сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая»… Все вы, все ваши для меня – земля святая.
V
Всякий раз, находясь в Ленинграде, краду служебное время для вылазок на берег Финского залива.
Южная кромка всегда помнится майским днем сорок пятого года: в этот день впервые после войны и блокады ударили петергофские фонтаны, то серебряные под солнцем, то свинцовые под тучами. Немое ликование и затаенная печаль владела всеми, кто был тогда у Большого каскада и Большого дворца, еще поверженного, еще в руинах. Это ликование рождала не всемирная слава оживших водометов, а зримость возвращения к довоенному, доблокадному. А печаль соотносилась не только с руинами Большого дворца – они были знаком невозвратных потерь.
Но теперь меня не очень-то влечет на южный берег залива, к дворцовым ансамблям и паркам, соперникам версальских, в двуспальный шелест громадных автобусов Интуриста. Предпочитаю берег северный. И не в летние месяцы, когда гомон, как на птичьем базаре, а поздней осенью иль в зимнюю пору, когда пусто и тихо и далеко слышно.
Я и сейчас собираюсь туда, вот только бы мне совладать с неким Иксом – ищу, ищу… Впрочем, расскажу все по порядку. Правда, многое не трону, сознавая необъятность необъятного. Однако как не упомянуть о партизанских набегах Лопатина в Питер?
Ему было запрещено появляться в столице. Нет, появлялся. Однажды даже ехал в одном вагоне с вильненским жандармским генералом. Ничего, сошло! «Представь, Бруно, мы всю дорогу благородно игнорировали друг друга».
Ему был уготован приют на Тучковой набережной, в большой и удобной квартире известного журналиста. Из окон, если наискось, виднелся сумрачный сгусток Петропавловки.
В доме массивная парадная дверь, и Герман Александрович тянет на себя дверную ручку, кованую, медную, тульской работы, с крохотным четким черным клеймом в виде двуглавого орла.
Всякий раз, идучи в Пушкинский Дом, я ритуально прикасаюсь к этой дверной ручке. Пушкинский Дом рядом, и там, в хранилище рукописей, есть письма Германа Александровича к сверстнику и другу всей жизни, письма девятьсот шестого и девятьсот седьмого годов.