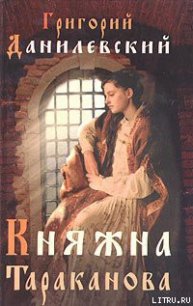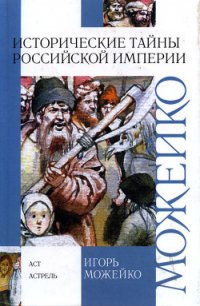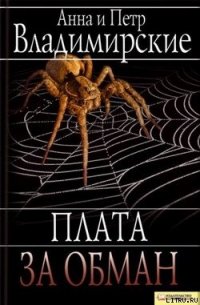Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Никита Юрьевич судорожно моргнул глазом, но спросил:
— Ты хотела меня видеть, милая?
— Да, папа, я хотела вас спросить. Помните, вы говорили мне о князе Зацепине, о вашем оскорблении, о миллионах, которые Зацепину достаются. Я вам сказала, что для того, чтобы смыть сделанное вам оскорбление, отплатить врагам вашим, я готова на всё. Теперь я позволяю себе спросить: вы видели этого князя Зацепина? Без сомнения, вы слышали его рассуждения, которыми перед нами он себя так ясно очертил. Если вы слышали, то позволяю себе вас спросить: человек ли он?
— То есть как это — человек ли? — спросил Никита Юрьевич, вспоминая, что именно этот же вопрос он сам себе сделал, после того как первый раз говорил с ним. — У нас в то время разговор, кажется, шёл, мой друг, не о человеке, а о капиталах.
— Да, но эти капиталы должны же принадлежать человеку, хорошему или дурному, умному или глупому, красивому или безобразному, но непременно человеку. Так ли, папа? А человек ли князь Юрий Васильевич Зацепин, или обезьяна, собака, или какой другой зверь?
— Моя милая, разве можно так резко говорить?
— Нет, папа! Но отвечайте просто на мой вопрос. Если вы находите, что можно назвать человеком того, кто жалеет, что вы по закону не можете, например, вашим Евсеичем, который более сорока лет за вами ходит, накормить собак, и находит самым хорошим делом продажу девок на вывод; особливо заметьте его примечание, что он сказал: «В Москву много покупают и дорогие деньги дают», и это сказал он мне, о которой думает, что я могу быть его невестой... если вы находите, что это по-человечески, — то я не отступаюсь от своего слова и иду за него. Но, папа, если вы и сами находите, что человек так думать и говорить не может, то неужели вы согласились бы выдать меня замуж за собаку или обезьяну, если бы, положим, у собаки этой или обезьяны были те тридцать миллионов, которые, при вашей помощи, могут достаться Зацепину?
На это Никита Юрьевич хотел отвечать, хотел отвечать сильно. Ему в глазах рисовались слова «опозорили, выгнали», и он хотел распространиться о преданности роду, о величии самопожертвования. Но вдруг лицо его сильно заходило, глаза замигали судорожно, что-то начало дёргать то одну, то другую щёку, и рот начало сильно перекашивать. Он невольно закричал от страшной нервной боли.
Никита Юрьевич стоял в это время посреди своего кабинета против дочери, которая столь настойчиво предложила ему разрешить вопрос о человеческом достоинстве предложенного им жениха.
Вдруг рука его приподнялась, подёрнулась; потом приподнялась и дрыгнула нога; потом другая рука и другая нога, подался и весь корпус. Он опять испустил нечеловеческий крик, — крик отчаянный, страшный, и вслед за этим криком пошёл плясать по кабинету, дрыгая руками и ногами и подёргивая ими, в то время как судороги сводили его лицо, глаза, щёки и заставляли двигаться даже его уши.
Он кричал отчаянно, страшно и начал крутиться в пляске по комнате, будучи не в силах остановиться.
Княжна Китти, омертвелая от испуга, с минуту молчала.
— Папа, милый папа, что с тобою? — вскричала она. — Я согласна, согласна, хотя лучше бы ты похоронил меня! Я сделаю всё, что ты хочешь! Папа, папа!
Но Никита Юрьевич не отвечал ни слова, продолжая свою пляску по комнате и испуская те ужасные крики, которые определяли невыносимость чувствуемой им боли, происходящей от дёрганья нервов и судорожного сведения мускулов.
Сошлись домашние и смотрели с ужасом, не зная, что делать, что предпринять. Евсеич догадался послать за доктором.
Доктор пришёл, посмотрел и не мог даже взять руки Никиты Юрьевича, чтобы пощупать пульс, так он прыгал, скакал, начиная иногда биться головой о стену.
— Что это такое, доктор? — спросила княгиня.
— Такая болезнь нервная, страшная болезнь. Нужно уложить его, хотя силой, в постель. Я пропишу лекарство.
— Как называется такая болезнь? — спросил старший из сыновей, который тут был.
— Пляска святого Витта. Иногда она сопровождается страшными мучениями. Дай Бог князю силы их вынести.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Отчего, отчего? — спросил князь Юрий Юрьевич. Доктор пожал плечами.
— Нет действия без причины, — отвечал он. — Душевное расстройство, нервные потрясения, глубокое огорчение. Но почему и как — этого ещё не дано нам знать!..
VII
ОТЧЕГО ЗАГОРЕЛСЯ СЫР-БОР
Орлов угощал ужином Али-Эметэ. Они ужинали вдвоём и вместе составляли планы свержения Екатерины с престола.
Стол был сервирован в садовой веранде, густо прикрытой зеленью. Апельсиновые и померанцевые деревья в цвету окружали веранду и обдавали её своим возбуждающим ароматом. Между деревьями виднелась небольшая античная статуя, изображающая Венеру, слушающую соблазнительные речи Вулкана. Ответ Венеры изображался тонкой струйкой воды, которая, как бы освежая упавшего на колени Вулкана, падала сперва в серебряную раковину, подаваемую ей Амуром, а потом в мраморный бассейн и журчанием своим будто вторила страстным словам, сближающим две наиболее могучие, наиболее волнующие человечество страсти: любовь и честолюбие.
Несмотря на невыгодные отзывы об итальянской кухне вообще, ужин, предложенный Орловым Али-Эметэ, был превосходен. Правда, повар у него был француз, тем не менее Орлов хотел сообщить своему ужину национальный характер итальянского пира, долженствовавшего напомнить знаменитые ужины Лукулла. Кажется даже, что именно под прикрытием этого условия назначенный ужин с глазу на глаз мог состояться. И точно, ужин был вполне итальянский. Устрицы Средиземного моря, дикая серна сицилийских гор, палермские стримсы и миланский гусь в оливках, может быть выселившийся потомок тех гусей, что когда-то спасли Рим, представляли нечто такое, что нелегко было иметь в Париже и Лондоне, особливо в соединении с полентой, макаронами, итальянской ветчиной и птичками алжирской дичи, так же как и персиками южной Франции, сицилийским мускатным виноградом и африканскими финиками и фигами. Всем этим можно было насытить целый эскадрон, не только одну Али-Эметэ, которая, кстати прибавить, любила хороший и изысканный стол, но вовсе не отличалась особым аппетитом.
Впрочем, высших сортов тенедоское и кипрское вино и, наконец, превосходное лакрима-кристи, из погребов самого покойного святейшего отца Климента XIV, содействовали возбуждению аппетита и помогали находить превосходным всё, что ученик Вателя, француз Гуфье, мог предложить для угощения той, которая, по уверению Орлова, обращённому к ней самой, весьма легко могла занять русский престол как прямая и законная наследница императрицы Елизаветы I.
Орлов высказывал свои предположения относительно осуществления плана, который в его устах казался столь несомненным, охватывавшей его страстным взглядом Али-Эметэ.
— За признание вас моей эскадрой я отвечаю! — говорил Орлов. — Потом я напишу Румянцеву.
— И вы думаете, что Румянцев согласится? — спросила Али-Эметэ, взглядывая на Орлова сколько с честолюбивой надеждой воспользоваться мыслью и действиями этого героя, этого гения, этой силы, столько же и с тем страстным томлением, которое хотело бы, чтобы самое честолюбие охватилось страстностью и сила подчинилась нежности.
Но Орлов искусно играл свою роль.
— Румянцев! Он будет непременно весь наш! Он признается вообще одним из преданнейших лиц памяти покойной императрицы Елизаветы I и будет рад стать за Елизавету II. Когда Екатерина заняла престол, он подавал в отставку и остался только по её особому настоянию. Разумеется, по моему письму он сейчас же остановит наступление, несмотря на свои победы, и даст нам время и удобный случай войти с султаном в соглашение. А тогда у нас будут в руках флот и армия, а к ним и ставший из врага союзником турецкий султан. Для начала это будет кое-что.
Орлов остановился, бросив будто нечаянно на Али-Эметэ страстный взгляд, побеждённый им сейчас же, будто усилиями твёрдой воли. Он ту же минуту налил две рюмки лакрима-кристи, прося княжну выпить рюмку этого нектара за успех хорошего начала.