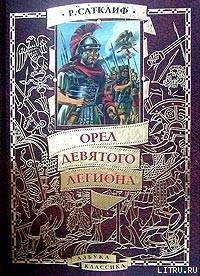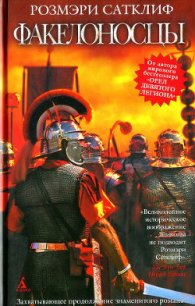Меч на закате - Сатклифф Розмэри (книга бесплатный формат .TXT) 📗
Так что вскоре, когда в комнату внесли дымящееся, только что с вертелов, оленье и барсучье мясо и по кругу начал ходить кувшин с медом, мы с Сердиком пили из одного кубка и вместе обмакивали пальцы в чашу для полоскания, пируя с остальными Товарищами и дружинниками, не принимавшими участия в проходившем ранее совете. Двое мальчишек, как и было предсказано, «вернулись, когда их позвал желудок», и поужинали, пристроившись на корточках среди собак. Никто не спрашивал, что они делали весь день, а сами они ничего не сказали, но по виду их лиц было похоже, что одну половину дня они дрались, а вторую — ели чернику. Теперь они сидели плечом к плечу — темноволосая голова рядом с белокурой в свете огня — и по-приятельски вытаскивали друг у друга занозы, оставленные кустами шиповника.
Мне показалось, что в этом есть какие-то зачатки надежды на будущее. Но каждый раз, когда я смотрел в сторону мальчишек, я видел позади них лицо Медрота, моего сына, который был среди других капитанов эскадронов, и каждый раз его замкнутый и в то же время странно пожирающий взгляд, горящий в свете пламени сапфировым огнем, был устремлен на меня или на сидящего рядом со мной Сердика, так что в конце концов мне начало казаться, что я не могу спастись от этого взгляда.
Ночь казалась настолько заполненной Медротом, что я не был удивлен, когда позже, направляясь к постели, которую устроили для меня из торфа и веток у стены разрушенного сеновала, обнаружил, что он ждет меня. Когда я вошел, он выпрямился во весь рост, поднявшись со спальной лавки, и приглушенным голосом спросил, нельзя ли ему поговорить со мной наедине.
Я сказал Риаде, который, согласно обычаю, последовал за мной:
— Ты мне пока не понадобишься. Иди и проследи, чтобы нас не беспокоили. Я позову тебя позже.
И когда он ушел, я шагнул вперед, опуская за собой тяжелый полог из волчьей шкуры.
— Медрот? И что же привело тебя сюда?
— Неужели так странно, что сын приходит в хижину своего отца?
— У тебя это вряд ли можно назвать привычкой.
— Но разве это зависит только от меня? — сказал он. — Если мое общество доставляет тебе удовольствие, ты очень хорошо это скрывал, — а потом внезапно спросил:
— Отец, что же все-таки не ладится между мной и тобою?
Я подошел и, усевшись на сложенные на постели овчины, уставился в голубую, как море, сердцевину пламени восковой свечи.
— Ты именно это пришел у меня спросить? Не знаю. Клянусь Богом, не знаю, Медрот; но что бы это ни было, я признаю эту вину, я и мой дом, — я, зажегший искру твоей жизни в чреве твоей матери, мой отец, первым научивший ее мать ненавидеть.
— Да, ненавидеть, — мрачно сказал он. — Я — воплощение твоего греха, не так ли, отец? Ты всегда будешь чувствовать во мне темный послеродовой запах ненависти моей матери и сам будешь ненавидеть меня в ответ.
— Не дай Бог, чтобы я ненавидел кого-то, кто не сделал ничего, чтобы заслужить мою ненависть, — сказал я. — Все не так просто. Между мной и тобой пролегла тень, Медрот, паутина теней, из которой нет выхода нам обоим.
Он подошел ко мне и, прежде чем я успел понять, что он собирается сделать, опустился на пол и прижался лицом к моим коленям. Это было чудовищно женское движение.
— Нет выхода…Это в том, что есть ты, и в том, что есть я, — его голос глухо отдавался от моего колена. — Нет, не отстраняйся от меня. Чем бы еще я ни был, я твой сын — твой самый несчастный в мире сын. Если ты не ненавидишь меня, попытайся немного любить меня, отец; это так одиноко, когда тебя никто никогда не любил, только пожирал.
Я не ответил. Мне всегда было нелегко находить слова, когда я больше всего в них нуждался. Мысль о том, что с ним сделали, вызывала у меня дурноту, меня терзала яростная жалость, словно при виде какой-то ужасной телесной раны. И в этом отчаянном протесте против одиночества я впервые узнал что-то от себя самого в сыне, которого я зачал, и сквозь мой собственный страх одиночества, заставлявший меня отшатываться от Пурпура, подобное воззвало к подобному. Думаю, еще мгновение — и я положил бы руку на его согнутые плечи…
Но прежде чем я успел это сделать, он оторвался от меня и вскочил на ноги, и когда он наконец нарушил разделявшую нас тишину, его голос снова звучал холодно и презрительно.
— Ах, нет, это значит просить слишком многого, не так ли?
И мгновение ушло безвозвратно.
— Это значит, что я просил бы дара, а я не должен просить даров, я всего лишь твой сын. Если бы я был вождем Морских Волков, то все было бы по-другому, и мы могли бы смеяться вместе, даже если бы между нами лежал обнаженный кинжал. Что ж, тогда я требую только того, что принадлежит мне по праву.
Я поднялся с постели, и мы стояли лицом к лицу.
— Принадлежит тебе по праву, Медрот?
— Сыновье право вместо подарка сыну, — он говорил теперь почти в исступлении. — Сегодня ты сидел в совете с правителями Морских Волков, и с тобой был Флавиан, и Кей — отпрыск римской семьи, который не может даже говорить на нашем языке без гортанного акцента Ренуса, почти затопляющего всякого, кто стоит рядом, — и Коннори, и этот молодой щенок Константин, и все остальные; а где же был я? Снаружи, просиживал свой зад вместе с простыми капитанами эскадронов вокруг кухонного костра!
— А разве ты не один из капитанов моих эскадронов?
— Я также принц Британии; это было мое право — сидеть за столом совета; все знают, что по крови я — принц Британии.
— По крови да, — сказал я.
— О мой отец император, нет нужды напоминать мне, что мы оба бастарды; встало ли это на твоем пути?
В наступившей затем долгой тишине ветер приподнял висящий на двери полог из волчьих шкур и потеребил пламя свечи, и я услышал высоко в темноте над головой, в стороне болот, посвист пролетающей дикой утки. Я внезапно подумал, что даже в ту последнюю ночь в верхней комнате Амброзий не сказал ни слова о Медроте; мы словно оба знали и молчаливо признавали, что его присутствие в любых планах будущего для Британии было немыслимым. Теперь я думал о том, что Медрот может прийти после нас, о его руке на Мече Британии, и меня снедал черный, мучительный страх за все, во что я верил и что почитал священным.
— Если бы я пригласил тебя с собой в совет, то это было бы равнозначно тому, чтобы встать и заявить всем в полный голос: «Это мой наследник, он придет после меня!» Но ты ведь как раз это и имел в виду, не так ли?
— Я твой сын, — повторил он.
— Среди носителей Пурпура венец не обязательно переходил от отца к сыну. Твои сыновние права, Медрот, не включают в себя Меч Британии после моей смерти, если только я не скажу этого.
Пелена, обычно скрывающая его глаза, словно сгустилась, и их синева была теперь совершенно непроницаемой; и когда через какое-то мгновение он заговорил, его голос внезапно стал шелковым.
— А что, если я кое-что скажу? Что, если я разглашу по лагерю всю мерзкую правду о своем зачатии?
— Разглашай и будь проклят, — ответил я. — Основной позор падет не на мою голову, потому что я не знал этой правды, а на голову твоей матери, которая прекрасно ее знала!
Снова наступила тишина, заполненная похожим на прибой шумом ветра в кронах деревьев. Потом я сказал:
— Как видишь, в конечном итоге все не так уж просто.
— Да, — тем же шелковым голосом согласился он. — Все не так уж просто. И, однако, может быть, в один прекрасный день мы найдем выход, отец мой. Сердце подсказывает мне, что мы найдем выход.
Угроза была очевидной.
— Может быть, — сказал я, — а пока пора ложиться спать, потому что завтра утром нам обоим придется встать рано; и, честно говоря, мне хочется побыть одному.
А когда он отвесил мне низкий, притворно-почтительный поклон и нырнул в завешенный шкурами проем, я еще долго сидел в раздумьях, прежде чем кликнуть Риаду. Я думал, среди всего прочего, и о том, что ни к чему публично объявлять Константина моим преемником. Мы с Кадором достаточно хорошо понимали, что в порядке вещей мальчик неизбежно должен будет прийти мне на смену; но было лучше — безопаснее для Константина и для всего королевства — чтобы это не было облечено в слова и провозглашено со ступеней форума.