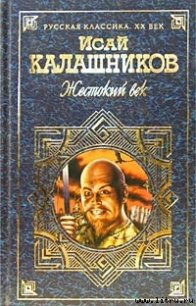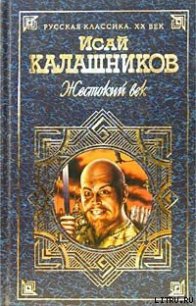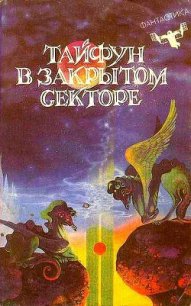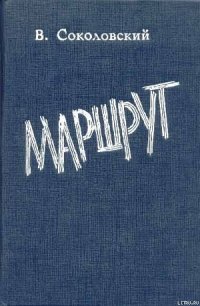Разрыв-трава - Калашников Исай Калистратович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
23
Все, в том числе и Игнат, ждали, что как только кончится война, вернутся солдаты, впрягутся в скрипучий воз хозяйства, и дело пойдет, как раньше шло. Но очень многим не суждено было возвратиться, другие пришли калеками, не способными выполнять тяжелую крестьянскую работу, а некоторые, пожив месяц-другой в Тайшихе, поглядев, как бедуют люди, уезжали в город, в рабочие поселки или, как брат Корнюха, устраивались в МТС. Продовольственные карточки обеспечивали рабочего и его семью хотя и не очень большим, но постоянным куском хлеба, на деньги, хотя и стоящие не много, можно было худо-бедно одеться. А колхоз почти ничего не давал. В конце года при полном расчете нередко оказывалось, что колхозник даже оставался должником, труд его был до того дешев, что не удавалось отработать несчастную пайку и жидкую баланду, которой кормили на полевых станах.
Бабы, до этого безропотно выносившие все тяготы, одна за другой начали бунтовать. Утром в конторе всегда стоял шум и гам. Бабы и ругались, и жаловались, и плакали. Игнат больше молчал, ожесточенно подергивая бороду, зато Стефан Иванович безоглядно кидался в перепалки, озлоблялся, выкрикивал обидные, чаще всего несправедливые слова.
Ожесточенность Белозерова была понятна Игнату, но принять ее не мог, и те добрые отношения, которые было установились меж ними, начали быстро рушиться. Он радовался отлучкам Белозерова: без него легче было утихомирить и уговорить баб. Но тот отлучался редко, потому Игнат вынужден был попросить его не давать волю языку.
Это было в тот день, когда Верка Рымариха принесла заявление с просьбой отпустить ее из колхоза. Она пришла вместе с Прасковьей Носковой.
Гибель мужа Верка пережила с виду спокойно. Никто не видел, чтобы она плакала, никто не слышал ее жалоб. Впрочем, мало кому было известно о смерти Рымарева. Его увезли и похоронили неведомо где. Слухи о нем, самые разноречивые, постепенно угасли, так что к Верке никто из тайшихинцев особенно и не приглядывался, горе ее осталось незамеченным. Но сдала Верка сильно. На полном широком лице залегли крупные морщины, глаза потускнели, она уже не была сильной и крепкой, как прежде.
— Куда же ты собралась уходить, Вера Лаврентьевна? — спросил Игнат, подвигая к Белозерову ее заявление.
— Да хоть уборщицей в магазин… Обносились мы с Васькой. Надеть совсем нечего. Мне-то ладно, не невеста, сын большой стал. Штаны, рубашки нужны.
— А кто у нас работать будет? — Белозеров придавил заявление кулаком. — Ради лишних штанов бросать колхоз стыдно!
— Какие там лишние, было бы чем зад прикрыть… — не глянув на него, ответила Верка. — Я, Игнат Назарыч, все время честно работала. Теперь мочи нету. Отпустите.
— Все до поры до времени честные. А прижало — в кусты. Скорей всего Стефан Иванович не думал намекать на что-то.
Но Верка его слова восприняла как напоминание о Рымареве, побледнела, дернула головой, тихо проговорила:
— Такая мне благодарность, что себя не жалела…
— Стыда у тебя нету! — сказала Белозерову Прасковья Носкова. — Она такие кули ворочала, какие тебе, лопни-тресни, от земли не поднять. А пайку получала одинаковую со всеми. По ее телу, по ее работе и две пайки мало. Верка лишнего не просила…
— А ты чего встряла? Ты какого черта лезешь не в свое дело? — зашумел Белозеров. — Где твой Гришка? Смотал удочки. На заработки подался.
— Подался, а то как? Детей и кормить, и одевать надо. А на какие шиши? Ты мне дашь? От вас дождешься! Раньше хоть от коровы да огородов кормились. Теперь что? Налогами даванули так, что сопли из носу брызнули!
— Мало даванули. Больше надо, чтобы с корнем выдрать проклятую частную собственность.
— Тебя бы, дурака, надо с корнем выдрать из конторы!
И началась самая настоящая ругань, а где ругань, там обида, где обида, там и безрассудность. Ушли из конторы Верка и Прасковья озлобленные, сказали, что обе с этого дня в колхозе работать не будут.
— Только попробуйте! — крикнул им вслед Белозеров. Вот тогда-то Игнат вынужден был сказать:
— Ты, пожалуйста, попридерживай язык.
— Как? — изумился Стефан Иванович. — Ты что же, их защищаешь?
— Не совсем. Я их понимаю… — Белозеров выкатил глаза:
— Понимаешь? Ты несознательность понимаешь? Так?
— Сознательность не гармошка: ее как хочешь не растянешь, что хочешь на ней не сыграешь. Вот ты тут бросил слово насчет частной собственности, то есть насчет коров и огородов. Не знаю, какими соображениями, руководились те, кто удвоил налоги, но по мне это, как ни поворачивай, вредное дело.
— Удивляюсь, Игнат Назарыч! Удивляюсь, и примениться никак не могу. То ты все понимаешь, то самых простых вещей уловить не можешь. Я все время к тебе приглядывался и многое из того, что ты делаешь, одобрял. Но сейчас… Ты со своим подходом только множишь разброд и шатание. Заведешь колхоз в трясину. Тебе не нравится, что налоги удвоили. А я бы их утроил! Я бы начисто вывел все огороды, всех коров. Без своего молока и картошки любой как миленький будет работать в колхозе. С голоду подохнуть не захочет!
— А сознательность? При чем тут она, Стефан Иванович? Это по-другому называется — принудиловкой. Я не сторонник личных огородов. Но сейчас без них не обойдешься. Когда человек станет получать в колхозе все, что для жизни требуется, сам не захочет копаться на своих грядках. С этого конца и надо подходить.
— Гнилая у тебя теория, Игнат Назарыч! — с сожалением сказал Белозеров. — Однобоко на жизнь смотришь. Ты хорошо понимаешь Верку и Прасковью, но дальних наших целей понять не желаешь. Да, сейчас всем голодно, холодно, трудно, каждому передохнуть хочется. Но наш долг собрать в кулак все силы и, невзирая на трудности, двинуть дело далеко вперед. Распылять силы на огородик, когда их нигде не хватает, это же черт знает что! Есть и более страшная опасность. Подсобные хозяйства нас могут, утянуть назад, к тридцатым годам. Все придется начинать заново.
Игнат не торопился отвечать. Кто-то из них заблуждается, но вот что для него яснее ясного: к прошлому возврата нет, люди здорово изменились, сейчас их даже силой не возвратишь к старому, не заставишь отказаться от того, что добыто потом, кровью, душевными муками.
— Нет, Стефан Иваныч, заново начинать не придется. Война показала: мы выжили только потому, что плечом подпирали друг друга. Когда есть понятие об этом, никакие огородики ничего изменить не смогут. Отсюда нужно и смотреть на все другое.
— Твои рассуждения голые. Уходят же люди из колхоза! Пропади пропадом земля, зарастай поля полынью, они буду подметать магазины, сторожить конторы, это как?
— А работать задарма, впустую, это как?
Долго вели они разговор, трудный для обоих. И чем больше говорили, тем дальше расходились, тем явственнее чувствовалось возникшее между ними несогласие. Игнату было жаль, что у Белозерова пробудилось то, за что его недолюбливал и раньше, желание одним рывком добраться до цели неблизкой, труднодостижимой. Желание хорошее, что и говорить, но понятно же, ни рывком, ни заячьим скоком до нее не доберешься, выдохнешься на полдороге, и тот, кто шел ровным, выверенным шагом, уйдет далеко вперед.
Значит, первое и главное дело выверить свой шаг, тщательно учитывая силы и возможности. Эту его мысль Белозеров принял с холодком, он подходил к делу с другой стороны. Тех, кто сбегал из колхоза, Стефан Иванович, пользуясь властью председателя Совета, принуждал возвращаться; любой, даже самый незначительный случай неповиновения заставлял обсуждать на бригадных собраниях; снова, как и в довоенные годы, его можно было видеть всюду, поджарого, строгого, неулыбчивого, готового ежеминутно вспыхнуть от гнева; он грозил, стыдил, требовал, ругался и, надо отдать ему должное, почти всегда добивался своего.
Игнат тоже вынужден был без конца заниматься «беженцами». Говорил с ними честно, открыто, ничего не приукрашивая, спрашивал совета, как по-новому вести хозяйство, чтобы колхозник не оставался в накладе, вовлекал в споры о земле, семенах, сроках сева… И этим нередко затрагивал в душе человека извечную, неистребимую любовь к умной крестьянской расчетливости. Но стоило разговор повернуть к тому, что надо возвращаться в колхоз, и человек сникал, начинал туго и трудно раздумывать вслух о детях, которых надо кормить, одевать, учить, а колхоз… Иной все-таки не выдерживал.