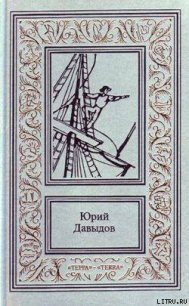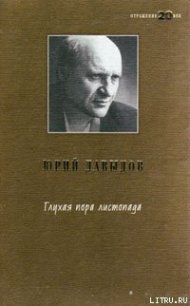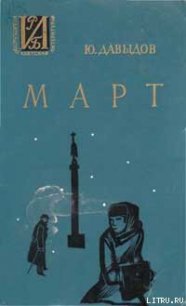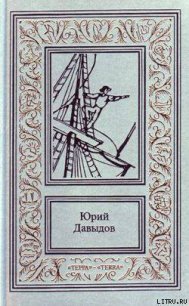Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
Года два спустя чета Неймайер учредила в Берлине ателье корсетов и модного дамского платья. Она готовила душистый кофе с хрустящими булочками. Он сиживал у окна в халате и колпаке. В воскресные дни они хаживали в Зоологический сад послушать отличную полковую музыку – это стоило две марки. А на Унтер-ден-Линден они видели кайзера Вильгельма – это не стоило и пфеннига. Увы, бог не дал младенца. Но она смирилась, а он не роптал. Соревнуясь в экономии, они завели отдельные чековые книжки. Она выписывала иллюстрированный журнальчик, он – беспартийную газетку. Оба были равнодушны к политике. Правда, он все-таки интересовался выборами в рейхстаг. Оказалось, в Берлине жительствует четверть миллиона социал-демократов, значительно меньше свободомыслящих, еще меньше консерваторов.
Ах, пять лет голубел цветок голубой. Но вот заговорили пушки. Полковая музыка в Зоологическом саду умолкла, кайзер не прогуливался по Унтер-ден-Линден, кофе безумно вздорожал, социал-демократы ратовали за одоление варваров-славян, а берлинская полиция ловила шпионов. И в громах европейской войны никто, кроме г-жи Неймайер, не расслышал вскрика фальцетом г-на Неймайера – он был арестован.
Арестованного препроводили в Моабит. Амалия, кажется, никогда не бывала на этой бесконечной, как ее горе, Инвалиден-штрассе. Надо было миновать и сельскохозяйственный институт, и естественный музей, и горную академию, и множество жилых домов, прежде чем увидишь высокие деревья парка, напротив которого находятся уголовный суд и тюрьма Моабит, одинаково угрюмые. У г-жи Неймайер текли слезы. Она не хотела знать, кто он такой, ее Мулат. Она знала только, что любит его по-прежнему, любит, как в Петербурге, и горько сожалеет, что они поселились в этом бездушном городе, где никому нет дела до страданий ее бедного Мулата.
И верно, Азеф, он же Неймайер, страдал от несправедливости. Его обвинили в шпионстве. Если он и шпионил, то отнюдь не во вред Германской империи. Его обвинили в анархизме. Ни социалисты-революционеры, ни департамент полиции анархизма не исповедовали. Какая чудовищная несправедливость!
Г-жа Неймайер обивала пороги испанского посольства, представлявшего в Германии интересы русских подданных. А г-н Неймайер писал в Стокгольм, «высокому комитету имени ее императорского высочества великой княгини Татьяны Николаевны» – просил посредников добиться разрешения покупать продовольствие за свой счет: совершенно необходима диета, он страдает почками.
Кто уж там посодействовал – посол испанский или «комитет имени ее», сказать трудно, а только в один прекрасный день немцы, сообразив, что г-н Неймайер не занимался военным шпионажем, предложили сменить моабитскую одиночку на лагерь для гражданских пленных.
Это было бы совсем неплохо, если бы Неймайер не был Азефом.
После того как маньяк Бурцев и этот проклятый Илья Муромец русской революции… Нет, даже и не столько маньяк, так сказать, технический распорядитель, сколько именно Лопатин, с авторитетом и весом, суждениями и мнениями которого посчитались и те, кто долго не верил в предательство одного из основателей партии и главы БО, после того как маньяк и шлиссельбуржец сделали свое дело, он, Азеф, был публично объявлен провокатором, о нем наперебой писали газеты отечественные и неотечественные, его портреты попали и в периодику и в отдельные издания. А теперь колбасники требуют: никакого Неймайера, в лагерь пойдете только под своей подлинной фамилией. Идиотические педанты! Нечего сомневаться, в лагере непременно найдется мститель, и тебе крышка.
Вот и опять, думал Азеф, вот и опять чудовищная несправедливость! Суть не в том, что бомба Созонова, убившая Плеве, как и бомба Каляева, убившая великого князя Сергея, были нацелены, и нацелены без промашки, им, Иваном Николаевичем. И Россия отнюдь не оплакивала ни Плеве, ни великого князя. Суть даже не в том, что так и не решено, на чью мельницу он вылил больше воды – революционеров или реакционеров? О, самая сокровенная суть, убеждал Азеф, словно бы и не себя, а того мстителя из лагеря для пленных, суть, она ведь вот какая: работая в терроре, он работал против террора. Людей, жаждущих подвига, посылал на подвиг, а вместе и на эшафот вовсе не ради подвига и эшафота. Нет, хотел, чтоб все наконец поняли, что между нами и теми, кто живет после нас, нет никакой связи, что есть лишь прижизненное счастье, независимое от того, будут ли счастливы другие. Всем лучше никогда не будет. Единственная гармония в отсутствии гармонии. Нет ничего дороже своей единственности. Зачем же эти лихорадочные помыслы о грядущих поколениях?.. Так Азеф убеждал не себя, а другого или других, тех, что в лагере для гражданских пленных, убеждал горячо, искренне, но знал, что его не поймут, и предпочел дожидаться лучших времен в моабитской одиночке. Спасительной, однако и губительной, потому что в тюремных условиях все сильнее сдавали сердце и почки.
На четвертый год заключения ворота моабитской тюрьмы выпустили бывшего шефа БО и бывшего сверхсекретного агента уже не существующей империи. Стариковски шаркая, он увидел весенние облака, изумрудную дымку парка – и всхлипнул. Г-жа Неймайер с помощью извозчика усадила его в пролетку, укутала пледом и повезла домой.

Лучших времен он не дождался. Сердце и почки отказывали. Ом очень боялся смерти и часто плакал. Совсем обессилев, затихал в видениях юности: отец-портняжка, мать-стряпуха, прыщавые сестры; недоучившийся реалист, он подрабатывал секретарем фабричного медика, корректором и репортером ростовской газетенки. Нищенское житье, хорошее житье… А молодость? О Карлсруэ – маленькая столица великого герцогства: парки и фонтаны, дворец и ратуша; тон задавали бурши – студенты, упитанные молодчаги с тросточками и жесткими, как жесть, высокими крахмальными воротничками; тугие щеки и медные лбы украшали шрамы почетных рапирных дуэлей. В кнайпах за кружками бурши чванливо третировали русских студентов политехникума за их глупое пристрастие к «политике», к «социальному». Пивных чураясь, уходили они в зеленые кущи и виноградники или отправлялись за восемь верст, к Рейну, где дымили дюссельдорфские буксиры, на рейнском берегу пели: «Выдь на Волгу», смачивая горло аффентальским красным. Он неизменно был в гурьбе, в компании, он, Азеф, прозванный земляками Толстым Жаком и уже обозначенный в бумагах департамента полиции «сотрудником из Карлсруэ» или, как написал однажды какой-то болван-писарь, «сотрудником из Кастрюли»… Потом, в России, он часто рассказывал Любушке о своем студенчестве, Любушка смеялась и хлопала в ладоши: «Толстый Жак? Славно! Ведь ты и вправду – добродушный увалень». И она тоже стала звать его Толстым Жаком… Бедная Любаша, вечная тревога за него, ранняя седина в иссиня-черных волосах, она курила папиросы «Вдова Жоз», иногда казалось, что в этом есть какой-то печальный намек… Проклятый маньяк Бурцев и трижды проклятый старик Лопатин – они, они погубили тебя, Любушка. Особенно этот шлиссельбуржец, задушил бы своими руками, – Лопатин, именно Лопатин, председатель третейского суда, положил конец сомнениям, колебаниям, всему положил конец. И ты, Любушка, ты стреляла в своего Толстого Жака, когда я, уже уничтоженный, пришел поглядеть на тебя, на наших мальчиков. Бедные, ни в чем не повинные мальчики, их сторонились сверстники, дети эмигрантов, жестокие, бездушные, указывали на них пальцем… И он опять плакал.
Он плакал, страшась смерти, жалея себя, Любу, мальчиков, жалея и верную сиделку свою, увядшую, некогда пышную, златокудрую глупышечку. Этим страхом смерти, этим ужасным нежеланием перестать быть, этой жалостью он впервые приобщался к человеческому.
Амалия похоронила его под сенью загородного кладбища. Заказать надгробье с именем покойного, родившегося в 1869-м и умершего в 1918-м, она не решилась – не хотела, чтобы могилу когда-нибудь осквернил осиновый кол. Но кладбище было немецкое, порядок требовал порядка, и на могиле поставили дощечку, меченную нумером «446».