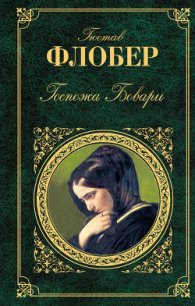Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
Разумеется, я мог бы ей возразить. Хотя бы так, что последовал бы за ходом ее мысли, обогнал бы ее и унял бы ее порыв! «Ясно, сударыня. Каждое расстояние, избранное для наблюдения, показывает, в сущности, другой объект, соответствует другому учению, если хотите, создает другую науку. От астрономии до микробиологии, не правда ли? Так сказать, от Медлера [145] до Мечникова…» Очевидно, она бы с этим сразу согласилась. А потом я спросил бы — по-отечески свысока: «Однако, сударыня, скажите, почему вы проповедуете одно расстояние и соответствующую ему одну науку? Согласен, мы можем сказать, что и ваш социализм в известном смысле — наука, но почему вы объявляете ее универсальной?!»
Но моя собеседница не оставляет мне времени на ответ. Она делает неожиданный поворот. Она наклоняется вперед и взволнованно говорит:
— Господин профессор, вы спросили, что в финской революции для меня было самым важным, оставившим самое глубокое впечатление. Вам я скажу. Потому что вы с этим связаны лично. С моим переживанием. Да-да. Ну не непосредственно, а через ваше родство…
Вздрогнув, я думаю: что бы это могло означать?! С революцией у меня единственная родственная связь — это Иоханнес. Но к Финляндии он, насколько мне известно, отношения не имел. Впрочем, кто его знает…
— Неужели, сударыня? — говорю я, улыбаясь. — Это даже интересно.
И она рассказывает:
— Вы слышали о восстании на Свеаборге? Кто же о нем не слышал! Я считаю это событие самым героическим из всего, что я видела. А видела я его вблизи. Нет, на остров во время восстания мне попасть не удалось. Но я всю неделю поддерживала связь с их представителями, представителями восставших, которые приходили в город. Я принимала участие в их встречах и собраниях. Какие летние ночи… И в ясном небе над морем — грозный грохот пушек. Среди восставших на Свеаборге офицеров было немного. Но кое-кто в восстании все-таки участвовал. Одним из них был мой друг лейтенант Емельянов. Все началось в понедельник… В пятницу ночью происходило последнее собрание в одном доме в Маарьянкату. Они уже знали, что им предстоит. Что флот уже вышел из Кронштадта. Но не помогать им, а громить их. Я не знала. Я все еще надеялась, а вдруг все-таки… Но я знала, что некоторые офицеры бежали с острова и отправлены в подполье. И помню — в Катаянока, у лодки… Мы прощались. Он возвращался на Свеаборг. Волна плескалась о лодку и скалу. Я спросила, не лучше ли ему остаться в городе. Потому что если восстание не удастся, то ему, офицеру, спасения не будет… Он покачал головой и пожал мне руку: «Нет, я не могу покинуть моих ребят. Прощайте». Ясно сознавая, что его ожидает. Это его решение, его взгляд, его рукопожатие три года тому назад, господин профессор, я запомнила на всю жизнь. Ну да. На следующий день, после бомбардировки и обстрела снарядами, крепость сдалась…
Молодая дама умолкла, она смотрит в окно на скользящие мимо поля и сосны. А я думаю: все именно так, как я и предполагал. Я даю ей минуту времени. И спрашиваю:
— А… лейтенант Емельянов?
— Полевой суд приговорил к смертной казни, и там же, в крепости, его расстреляли.
А я думаю: где же мои непонятные родственные связи со всем этим? И молодая дама отвечает мне раньше, чем я успеваю задать вопрос. Она отворачивается от окна. Наклоняется ко мне так близко, что я ощущаю ее дыхание и аромат «Brise de Paris». И неожиданно, приводя меня в смущение, берет меня за руку. Это далеко от принятых понятий о воспитании. Это жест порывистой молодой женщины, которую жизнь освободила от застенчивости деревенской девушки. Она говорит:
— Совсем недавно, за несколько недель до поездки в Эстляндию, я разыскала вашего родственника. Он же ваш родственник, я знаю… доктор Мартенс, военный врач на Свеаборге. И попросила его рассказать. Он был при их гибели. Он не хотел говорить. Но я просила. И он рассказал…
И я думаю: это правда, он родственник! Разумеется! Фридрих. Сын Юлиуса. Военно-морской врач. Долго пробыл на кораблях Таллинской эскадры, а теперь уже много лет в Хельсинки. Я у него там был. Но мне он не рассказывал…
Она продолжает:
— Доктор Мартенс говорил… да-да, его печальная обязанность была присутствовать при расстреле. И лейтенанта Емельянова он сразу вспомнил. Потому что остальные в свою последнюю минуту вели себя кто как… одни молча смотрели под ноги, другие — вдаль, третьи — молились, а он пытался говорить. Перед залпом он успел сказать только одно слово… Доктор Мартенс сказал: «Представьте себе, он повернулся к солдатам, которые вместе с ним стояли у стены под дулами, и он не сказал им „Братцы!“. Что было бы естественно, если вообще обращаться к ним в такой миг. Даже в это последнее для них мгновение он сказал „Товарищи“». И ваш родственник, доктор Мартенс, честный человек, этого не понял. Скажите, а вы понимаете? — Она сжимает мою руку, трясет меня за руку, чтобы я ответил… пронзительным от волнения голосом повторяет: — Господин профессор, а вы это понимаете?
— Да-да, разумеется, — говорю я, — разумеется… — Ибо разве я мог бы сказать иначе? И думаю при этом: но я понимаю этого лейтенанта. Прежде всего потому, что мужественный человек в свой последний миг из гордости провозглашает правду, оказавшуюся ошибкой… И бог знает, может быть, я понял бы его и в том случае, если бы его последнее слово не было взрывом гордости, а тихим обращением верящего человека к своей правде. Я спрашиваю и замечаю, что спрашиваю вдруг почти шепотом: — А вы не спросили, как он это сказал?
— Да-а, — отвечает молодая женщина, — я спросила, и доктор Мартенс ответил. Он произнес это слово совсем-совсем тихо. Ужасно спокойно. «Товарищи». И тут раздался залп…
Она умолкает, стук и тряска поезда становятся гораздо ощутимее и громче, чем до сих пор.
Нет, мне Фридрих не говорил, что его служебные обязанности требовали от него присутствия на месте казни. Но я этому не удивляюсь. В наше удушливое время все мы превращены — но не я, я, слава богу, нет, но многие, — наряду с выполнением своих служебных обязанностей, превращены в пособников насилия… Тот славный старик Куйк на станции Пярну стал распорядителем тюремных этапов. Как и все его коллегии, начальники других станций на своих. Паровозные машинисты возят заключенных из города в город. Судьям, которым надлежало бы изучать причины провинностей, уготовлена роль послушных глашатаев смертных приговоров. Молодые ребята, служащие в армии, по воле случая становятся палачами… И Фридрих, как военный врач, должен присутствовать при этом и констатировать, что пули стрелявших свое дело сделали… Но ведь, в сущности, я и сам участник всего этого. Даже самый ответственный участник, во всяком случае в сравнении с Куйками, и паровозными машинистами, и Фридрихом, и солдатами. Потому что я лучше других вижу вещи в целом. И на самом деле, боже мой, именно я оказываю этой нашей государственной машине (нет-нет, я совсем не хочу сказать — гильотине или мясорубке, — нет!), на самом деле я оказываю ей самые важные услуги… Если угодно, можно даже сказать: именно я обеспечил ей, этой машине, воздух, чтобы дышать! Или весьма существенную часть воздуха, которым машина дышала в эти годы смертоубийств! Я не скажу — решающую, но повторяю: весьма существенную. И я не имею в виду при этом наши договоры со Средней Азией или наш Портсмутский договор. Перевести их в государственные кубические футы дыхательного воздуха — это тоже возможно, но мерки были бы все-таки слишком произвольны. Поэтому сейчас я имею в виду займы русского правительства последних лет. В первую очередь заем 1906 года. Сто миллионов рублей, или два с четвертью миллиарда франков. Главным образом — французские банки. Нам это действительно было нужно как воздух. Мы дошли до такой крайности, что в декабре 1905 года Шипов хотел аннулировать бумажные деньги. И тогда французы сказали (это общеизвестно): хорошо, они дадут России этот заем — при условии, что Россия открыто выступит на Алжирской конференции против Германии, на стороне Франции. Мы сразу же выступили. Но в это время в России были созданы законные основания для выбора и созыва Думы. И тут у французов, при их все же конституционном способе мышления, возникло сомнение, прежде всего, конечно, у Пуанкаре: правомочно ли вообще русское правительство в новых государственных условиях домогаться и получать такой международный заем без участия Думы? И тогда — но об этом знают очень немногие — Пуанкаре поставил новое и последнее условие: Франция добудет России два с четвертью миллиарда франков, если профессор Мартенс представит французскому правительству убедительно составленные аргументы правомочности русского правительства. Это не значит, что Пуанкаре написал в официальном письме, чтобы аргументы представил профессор Мартенс. Он написал: русское правительство. Но через директора Французско-Голландского банка он велел сообщить: наиболее быстро французское правительство решило бы вопрос в пользу России, если бы автором соответствующего объяснения был бы профессор Мартенс…