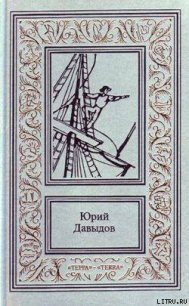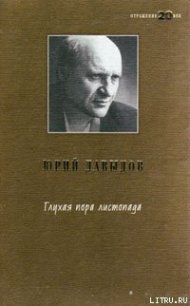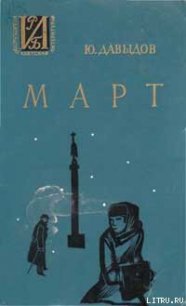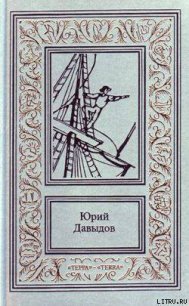Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (читать полную версию книги .TXT) 📗
То не было отрицанием «физиогномики». То было нежелание отдаваться плохому впечатлению. И всегдашнее желание обнаруживать хоть что-нибудь светлое. Требовалась серия наблюдений, позволяющих схватить личность в пучок непростых конкретностей. И все же он не мог одолеть антипатии к Азефу. Не мог при встречах обменяться с ним рукопожатием.
Азеф при всей своей вялости, которую все здесь принимали за усталость (а была она следствием опустошенности, на сей раз почему-то не восполненной курортными заботами о дочурке и вдове казненного боевика), при всей своей вялости Азеф остро и тонко чувствовал опасность, исходившую от Лопатина… Старые революционеры? Азеф презрительно ронял губу: у старых революционеров только одно достоинство – то, что они старые. Однако Лопатин… Лопатин… Азеф не раз слышал: Илья Муромец русской революции. Понимал: особый авторитет, вес особый. Отнюдь не возрастной, не по причине тюремного стажа… Все это сознавая, чуя антипатию «старичины», Азеф с каждым днем все сильнее и настоятельнее испытывал желание покорить «старичину». Не страх, не боязнь разоблачения толкали к тому. Нет, не страх, ибо уже было сказано Азефу: «Останься!» Не страх – другое: покорить и распорядиться по своему усмотрению. Да только не так, как боевиками, не так, как с боевиками. И вовсе не ради вящих заслуг перед департаментом, перед Фонтанкой, перед Герасимовым. Плевал он на них. Ради себя, вот что. Для себя, вот что. Он, Азеф, подведет Илью Муромца к краю бездны, склонит над бездной, ужаснет бездной. Он, Азеф, сделает то, что не сделал Шлиссельбург, – пусть рухнет, осознав никчемность своей незапятнанности, никчемность всей своей жизни, всех своих надежд.
И в душе Азефа возникло чувство, какое возникало к боевику, приготовленному для заклания: Азеф любовался «старичиной», любовался почти искренне, если не сказать – совсем искренне, потому что сам Азеф всегда ощущал свои «любования» искренними. Было нечто коварно-женственное в том чувстве, – с каким Азеф наблюдал Лопатина с его мощной статью, походкой чуть враскачку, открытым смехом, общительностью, бодростью, особенной лаской на лице, когда тот говорил с Волховским.
Привходящие обстоятельства заставили поторопиться.
Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом… Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится… «Хорошо, хорошо», – сказал Азеф.
В ресторанчике «Лайонс» сухо пощелкивал кассовый аппарат. Пахло в ресторанчике «Лайонс» сыром, жаренным на сухарях, и пивом.
Азеф заказал портер.
Пришел Лопатин, коротко кивнул (ни разу во все дни конференции он с Азефом не обменялся даже и молчаливым поклоном), сел, положил на стол руки, и Азеф опять заметил, какие у Лопатина сильные запястья.
– Герман Александрович, – начал Азеф, ощущая себя как на проволоке, туго натянутой высоко над землей, – Герман Александрович, позвольте спросить: отчего для меня, бедного, такое исключение?
– Какое? – хмуро сказал Лопатин.
– Вы чрезвычайно общительны, а со мною ни слова. За что сия немилость?
– Сие называется антипатией, – ответил Лопатин и прищурился, в упор разглядывая Азефа.
Азеф усмехнулся очень миролюбиво, вроде бы принимая стариковскую капризность.
– Вы, Герман Александрович, – сказал он, – не из тех, с кем играют в прятки…
– Почему же? – колюче оборвал Лопатин. – Со мною игрывали в бо-ольшие прятки.
Азеф и колючесть принял беззлобно. Тугая проволока легонько подрагивала под ногами. Сорваться он мог, разбиться насмерть не мог. Относительность риска и безотносительность безнаказанности давали смесь, всегда ему желанную.
– В самом начале нашей конференции от вас не скрыли, что среди делегатов есть и сотрудники департамента полиции, – продолжал Азеф, балансируя, как канатоходец.
– А один делегат пытался обратить внимание ваших товарищей на наличие провокации в центре вашей партии, – ответил Лопатин, принимая пробный шар, пущенный «каннибалом».
– Так, – почти весело ответил Азеф. – Но было указание и на провокацию на местах. Помните? Очень даже подозревали московскую девицу, хотя и мандат правильный, и пароли назубок.
– Я б на месте этой девицы, – сказал Лопатин, – удалился. Возникают подозрения – отойди в сторону, пока не распогодится.
Азеф широко осклабился.
– А я этого и хотел, я это и пытался!
– Вы? – непритворно удивился Лопатин.
– Представьте, я, Герман Александрович. Вчера собрался Совет партии. Я говорю: меня подозревают – я ухожу.
– И что же?
– А то, Герман Александрович, что все поочередно высказались: «Пусть останется». Понимаете – все до единого! А как бы вы, именно вы, поступили на моем месте?
Лопатин ответил мгновенно:
– Я никогда не мог бы оказаться на вашем месте. Что ж до вас, именно до вас, то вам, несмотря на единогласное «пусть останется», следовало уйти.
– А я, благодарный за доверие, расцеловал всех своих соратников.
– Знаете, – сказал Лопатин, – был такой эксперимент. Имен называть не станем?
– Конечно, это ж азбука.
– Так вот. Совсем недавно, в Вильне, показывают мне групповую фотографию, одни сидят, другие стоят. Спрашивают: «А что, найдете провокатора?» Не скажу, чтоб в секунду, но… Словом, тычу: «Не этот ли?» Говорят: «А вы еще подумайте»… Ладно, думаю. И опять: «А все ж не этот ли?» Удивились: «Верно. Этот».
– Ясновиденье?
– Да нет. Вполне мог бы и промахнуться. А вот когда вы… Отчего вы, годами знающие друг друга, не умеете разгадать провокатора?
– Случается, что и умеем. Правда, не часто, но иногда умеем.
– Однако… – обронил Лопатин и долго не спускал глаз с Азефа.
– Меня, что ли? – спросил Азеф, не потупившись.
– Почему бы и нет?

– Да ведь что же высосешь из сплетен маньяка Бурцева? – набычился Азеф. – Мне иногда даже жаль его – дело благое замыслил. Но не за тот кончик потянул. А впрочем, глядишь, чего-нибудь когда-нибудь вытянет… Но тут вот что. Хлебом полицию не корми, дай подпустить: се – провокатор, а не лев. Ну и воцаряется гнетущая подозрительность, разброд и шатанье в публике. И все же, увы: язва провокаторства поедом ест. А я, вы знаете, стоял у колыбели, здоровехонький народился младенец. А теперь… – Он махнул рукой. – Брошюрки писать, газетку редактировать – одно, а когда дело-то боевое… Не мне вам объяснять. Бывает, сам в себе усомнишься. Честное слово! А почему? Я вам искренне: иной раз как подумаешь, ну и выходит, что революция – это провокация, а провокация – это революция. Мы вот недавно были в Выборге, Натансон рассказывал про Нечаева, как Нечаев-то на революционную дорогу ставил. Это что, это как, это куда отнесешь? Со стороны глядя – ах, нехорошо, ах непорядочно. А дорога в колдобинах, дорога в рытвинах, боишься замараться – лежи колодой… – Безобразное лицо Азефа словно бы даже похорошело, озаренное грозным вдохновением. Лопатин, побледнев, теребил широкополую шляпу. Азеф, как бы смягчившись, прибавил печально: – Я читал, не помню где, но очень меткое: террор обнаруживает и глубокую нравственную боль, и глубокую нравственную распущенность. Тут… Как ее? В Древнем-то Риме была? Торпейская скала, что ли? С нее преступников в пропасть сбрасывали, вот я и думаю: все мы на скале Торпейской этой, то мы сбрасываем, то нас сбрасывают… Э, Герман Александрович, Герман Александрович, это ж двадцатый век, такая рулетка пошла, такие комбинации в «красном и черном»…