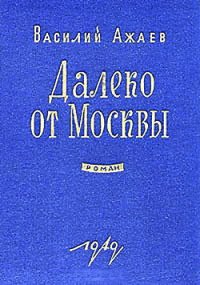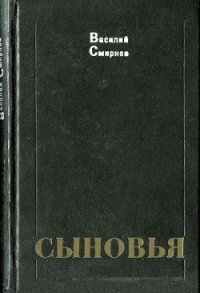Вагон - Ажаев Василий Николаевич (книга регистрации .txt) 📗
Мы с Павлушкой степенно этак в дом идем — поздравлять молодых. Входим. Свадьба сидит мертвая, невеста хнычет. Павлушка весело поздравляет. Извините, мол, что экипаж некрасивый.
Я публично объясняю гостям: дескать, оскорбили нашу рабочую честь. Если вы трудящие люди, то вполне нам посочувствуете. Ну и думал на этом распрощаться. Люди мы приличные, сроду никого не обижали. Живите, мол, богато и красиво.
Тут, однако, встают из-за стола два гражданина, идут к нам. Не дали они мне докончить. «Все ясно. Нас правильно предупредили (это, значит, бухгалтер с папашей донесли). Пройдемте, граждане, отсюда. Будете отвечать за покушение на знатных людей. Вражеский террор не допустим». — «С удовольствием, — отвечает Павлушка, — я теперь за подлую измену отомщенный».
На допросах я крепко ругал и теорию свою доказывал как мог. Несколько раз вызывали, и я на фактах разъяснял пакости дворян. Напоследок вызвали и сказали: «Старик ты вредный, и теория твоя несоветская. Вообще язык у тебя плохо болтается и всего можно от тебя ожидать. Получай пятерку, а сыну хватит двух годов, посколь инициатива целиком от тебя исходит».
Вот какие делишки.
…Вагон грохотал. Вагон так грохотал, что впору было опасаться, как бы не соскочил с рельсов. От всей компании не отставал и Мякишев. Хохотал зычно, по-дьяконовски, оглаживая бороду и оглядывая всех искрящимися глазами.
В ПОИСКАХ ВРАГА
Мне казались смешными догадки соседей о моих врагах, я отмахивался от наводящих вопросов, но не очень-то мне удавалось от них отмахнуться. В самом деле, откуда НКВД узнало обо мне, рабочем пареньке с химзавода, студенте вечернего института? Кто-то оклеветал меня. Кто? Долгими часами днем и ночью с пристрастием допрашивал я себя.
Сначала я вспомнил самых закадычных друзей, и сердце защемило от милых воспоминаний. Нет и нет, никто из друзей не мог быть виновником моей беды! Я не мог бы тайно предать Борю Ларичева или Ваню Ревнова, равно и они не способны на это. Перебрал одного за другим всех, с кем работал или просто знаком был, среди заводских не нашел своего обидчика. И среди знакомых отца не находил.
Оставался институт. Чем больше я вспоминал, сопоставлял и критиковал, тем больше убеждался: да, именно институт толкнул меня в беду. Подумать только, я и ходил туда чуть больше года после нескольких лет мечтаний. Вот и домечтался!
Сразу по окончании школы я поступал в театральный институт и провалился перед лицом важной комиссии из народных артистов и заслуженных деятелей искусства. «Следующий!» — поставленным голосом крикнул председатель, считая, что со мной вопрос ясен. Только один человек из комиссии, седоватый и незнаменитый, из сочувствия, посоветовал: «Приходите снова на будущий год, обязательно!» Я пришел. Весь завод болел за меня, заводская путевка лежала в кармане. Невозможно было опозориться и не поступить. И я поступил на вечернее отделение. Народные артисты и заслуженные деятели остались довольны моими ответами о Станиславском, о методе физических действий и этюдом на заданную тему («Вы работаете на химическом заводе? Вот и покажите, как вы работаете. Начало смены, вы приступили. Вошли в темп, разгорячились, вам нравится работа, но вы ее побаиваетесь. Близится конец смены, вы устали»).
По своему выбору я еще показал пародию на комиссию экзаменаторов и экзаменующегося, используя собственный печальный опыт. Народные и заслуженные посмеялись и похлопали. К счастью, они не узнали во мне отвергнутого раньше парнишку. Только незнаменитый и теперь совсем седой доброжелатель не забыл меня. Как и год назад, он вышел за мной в коридор. «Я знал, что придете».
Каждый вечер после работы я ходил на занятия, сидел ночью над книгами и радовался: все успеваю, на все хватает времени. Лекции, творческая практика, споры на самые разные темы, обсуждение новых спектаклей… Э, да что толковать! Институт занял в моей жизни громадное место. Однако если бы не институт, не стряслось бы со мной несчастья.
Хотя дело, очевидно, не в институте. Предположим, я ушел бы от судьбы. Ну, а другие, тот же Володя или Коля Бакин? Они ведь не учились, а от тюрьмы не ушли. Суть не в институте. Вернее, у каждого нашелся свой «институт».
После того как столбняк немного меня отпустил, я начал осматриваться, соображать и понял: декабрь 1934 года не одному мне изуродовал жизнь. Удар пришелся по всему народу, и он, могучий, ежась от боли, долго не понимал, что произошло.
Убийство Кирова потрясло всех. Кирова знали и любили. Мое отношение к гибели Кирова усугублялось большим горем отца, лично знакомого с Миронычем. Его сердцем я переживал, его словами высказывал гнев и тревогу.
И вот следователь, уставив свои воспаленные глазища, обвинял меня в кощунственном отношении к смерти Кирова. Якобы я чуть ли не злорадствовал, высказывал сомнения в правильности расследования убийства, комментировал письмо рабочих Сталину: «Мы хорошо понимаем, как тебе тяжело в эти дни».
Сразу же возник скандал. Я заорал на него. Он оскорбил меня, разве можно было стерпеть такие обвинения?
Следователь выхватил «пушку» и направил мне в лицо. Скорее удивленный, чем напуганный, я умолк и плюхнулся на место. Он положил револьвер на стол.
— Пусть эта штучка полежит здесь для вашего же спокойствия. Предупреждаю: за один такой взрыв схлопочете срок. Минимум трояк.
В камере меня наставляли: только не горячись, будь спокоен. Не дай бог его оскорбить, оскорблять может только он. И он будет рад, если ты выйдешь из себя. Я вышел из себя и, наверное, все испортил. Но как отвечать человеку, если он заведомо тебе не верит и обязательно хочет изобличить в том, в чем ты не виноват? Или ему для счета нужно пришить еще одно дело (так ведь говорят в камере)? Его обвинения основывались на разговорах и спорах в нашей студенческой среде, и я мог по правде все рассказать следователю. В этих разговорах, ей-богу, не было ничего преступного. Но следователя мой рассказ не устраивал, у него была наготове своя версия.
— Вот вы сомневались в деле Кирова: мол, все подстроено и запутано. Так? — спрашивал следователь.
— Нет, не так. Для всех смерть Сергея Мироновича Кирова была большим горем. Много возникало вопросов, и говорили так: надо распутать все и наказать виновных.
— Вот-вот, сомневались в органах. По-вашему, органы не сумеют разобраться? А кто вам подбросил сомнения? Ваш отец?
— Я вам уже говорил, не трогайте отца, он старый большевик, не вам о нем судить. Я обязан ему всем: тем, что всю пятилетку на заводе, тем, что я ударник и комсомолец.
— Между прочим, ошибаетесь: уже не комсомолец. Товарищи осудили вас… Понятно?
— Нет, не понятно. Позовите товарищей с завода, из института, и я у них спрошу, отреклись они от меня или нет.
— Еще чего! Будем хороших людей из-за вас беспокоить. Сами разберемся. Могу, конечно, запросить протокол собрания.
Хотел ли я видеть протокол? Мне было страшно. Неужели меня исключили? Я вспомнил, как в институте обсуждали дело студента Шустикова — у него арестовали отца. Большинство голосовали против исключения. Но многие были за. А ведь там был арестован отец. Здесь сам комсомолец.
— Что молчите? Вспоминаете аналогичный случай? Вот и скажите: голосовали за исключение Шустикова или против?
— Я не голосовал, так как состою в заводской организации. Но я был против исключения Шустикова.
— Ясно! Вы не могли не поддержать сына врага народа.
— Большинство проголосовали против. Шустикова все знают в институте, он настоящий комсомолец.
— «Большинство»! К сожалению, оно пошло за такими, как вы.
— Для чего вы все это говорите? Я ни в чем не виноват. Вам придется меня отпустить, и я потребую ответа.
— Вы еще мне грозите! Не будьте глупцом и не рыпайтесь. Мы с вами не в институте на лекции. Только чистосердечное признание и раскаяние могут облегчить вашу участь.
— В чем признание, в чем раскаяние?
— Опять вопрос? — Следователь вскакивал и смотрел на часы. Он заметно торопился и ворчал, что я тяну резину. — Признание и раскаяние во вредных мыслях, в поведении, недостойном советского молодого человека. В вашем присутствии говорили, что товарищ Сталин слепой, не видит, что кругом творится. Разводили контрреволюцию, а вы молчали. Молчание — знак согласия. Кивали головой, поддакивали. Может, скажете, и этого не было?