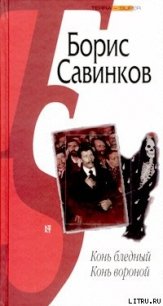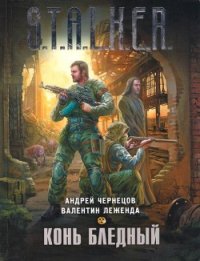Конь бледный - Савинков Борис Викторович (В.Ропшин) (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
21 июля.
Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.
Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.
Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей мести. И уже не спрашиваю себя: стоит ли мстить?
22 июля.
Генерал-губернатор ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию, в свой дом на Тверской. Он ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Тверской, в Столешниковом переулке — Федор. Генрих в резерве: он станет в дальних улицах, сзади дворца. На этот раз нас едва ли ждет неудача.
Что бы я делал, если бы не был в терроре? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.
Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без террора? Что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Время жатвы тех, кто не с нами.
25 июля.
Я говорю Федору:
— Ты, Федор, займешь Столешников переулок, от площади до Петровки. Генерал-губернатор должно быть поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.
Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит и его черные усы закручены вверх.
— Ну, Жорж;, будет им на орехи.
— Ты думаешь?
— Верно. Теперь не уйдет.
Мы в далеком конце Москвы, в Нескучном саду. В густой зелени лип затаился белый дворец. Здесь недавно жил генерал-губернатор.
Федор задумчиво говорит:
— В каких хоромах, мерзавцы, живут. Сладко спят, сладко едят .. . Баре проклятые … Ну да ладно: гляди, — служи панихиду.
— Федор …
— Чего?
— Если будут судить, не забудь взять защитника.
— Защитника?
—Да.
— То есть это адвоката какого?
— Ну да, адвоката.
— Адвоката не надо… Не люблю я их, адвокатов этих…
Да и суда вовсе не будет… Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов… Последняя пуля в лоб, вот и готово дело.
И я по голосу знаю, да, действительно: последняя пуля в лоб.
27 июля.
Я иногда думаю о Ване, об его любви, об его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутьи мне явился .. .
И еще:
И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул.
Ваня умрет. Его не будет. С ним погаснет и «угль, пылающий огнем». А я спрашиваю себя: в чем же разница между ним и, например, Федором? Оба убьют. Обоих повесят. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах.
И когда я думаю так, то смеюсь.
29 июля.
Эрна говорит мне:
— Ты меня не любишь совсем… Ты забыл меня … Я чужая тебе.
Я говорю неохотно:
— Да, ты мне чужая.
— Жорж…
— Что, Эрна?
— Не говори же так, Жорж.
Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:
О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.
Она шепотом повторяет:
— Да, неудача за неудачей.
— А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.
— Ты любишь другую?
— Может быть.
— Нет, скажи.
Я сказал давно: да, я люблю другую.
Она тянется всем телом ко мне.
Все равно. Люби, кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.
Я смотрю в ее голубые, опечаленные глаза.
— Эрна.
— Жорж, милый…
Эрна, лучше уйди.
Она целует меня.
Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.
Над нами тихо падает ночь.
31 июля.
Я сказал: не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть ее глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души? .. Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви ее красота и сила.
Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный, мелочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.
Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железной цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать?
3 августа.
Завтра опять наш день. Опять Эрна приготовит снаряды. Опять Федор, Ваня и Генрих займут назначенные места. Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него.
5 августа.
Вот что было вчера. В два часа я взял у Эрны снаряды. Я простился с ней на Тверской и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял Столешников переулок, Ваня Тверскую, Генрих дальние переулки.
Я зашел в кофейню Филиппова, спросил себе стакан чая и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грозно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Столешников переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: генерал-губернатор убит.
Я с трудом пробился через толпу. В переулке густым роем толпились люди. Еще пахло густым дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг, где-то справа, в другом переулке отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов. Я знал: это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятьях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое лицо и сказал: