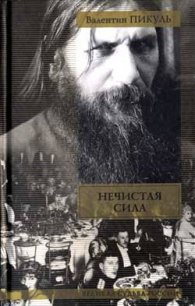Слово и дело. Книга первая. Царица престрашного зраку. Том 2 - Пикуль Валентин (полная версия книги .TXT) 📗
И никто Наташу не любит. Вот свекровь, Прасковья Юрьевна, та – да, жаловала; но она умерла, бедная, как в Березов приехали. А прочие Долгорукие – звери лютые, глаза бы их не видели. Алексей Григорьевич шпыняет, золовки щиплют, князь Иван жену в небрежении держит. «Эх, Иванушко! – думалось. – Душенька твоя слабенькая… Когда ходил по Москве в золоте да парче, когда при царе состоял, так был ты высок и статен! А ныне – грошик цена тебе: пьян с утра до ночи, соплив да слезлив…»
Не раз брала Наташа Ивана за голову, к груди прижимала.
– О чем плачешь, друг мой? – спрашивала. – В Сибири-то, под штыком сидючи, апелляции нету. Ну сослали… Ну обидели. Так не мы едины в печали своей: вся Русь таково жить стала. Погоди, друг любезный, цари тоже не вечны, а мы еще молоды… Гляди на меня – я ничего не боюсь! Все выживем, все переборем!
А выжить было ей трудно: Долгорукие сами дом острожный заняли, а Наташу с Иваном в сарай выкинули. Когда первенец родился, молоко в чашке мерзло. Второй родился (Борисом нарекли), от холода посинел и умер. А старшенький рос – его Михаилом назвали, – вот одна радость Наташе: мальчик!
Она его своей грудью вскормила и так ему пела:
Вечером позвали в дом острожный – ужинать. Пошла. Сидела там под иконами порушенная невеста царская – Катька! Пыжилась и манерничала. Того не хочу, этого не желаю. Около нее восседал на лавке глава семейства, князь Алексей Григорьевич – худ, страшен, бородат. За ними рядком теснились прочие чада: Николка, Алешка, Санька да дщерицы – Анька с Аленкой. Наташа поклонилась, с уголка присела. Ей, как собаке худой, пустили миску с кашей по столу – вжик! Глаза она опустила и стала есть…
Алексей Григорьевич потом сказал – на весь стол:
– А князь Иван-то где?
– Заутре еще уволокся, тятенька, – отвечала Наташа свекру. – И где запропал – того неведомо мне.
– Хороша ты сыну моему супружница, что даже не ведаешь, где муж пропал, – буркнул старый Долгорукий. – Кажись, не на Москве, а во Березове-городке живем: домов тута не шибко выросло, могла бы и вызнать, в коем князь Иван пропадает… Может, покудова ты тут кашу с маслом трескаешь, он с казачкой местной слюбился!
И стали все, на лавках от удовольствия прыгая, изгиляться в смехе гыгыкающем. А Катька (гадюка сладострастная) добавила яду:
– Шереметевы испокон веку таково живали: муж от жены, а жена от мужа. Разве не знаете, тятенька, что и матка еённая спилась на винах сладких да мужа-фельдмаршала до сроку в гроб вогнала?..
Наташа ложку на стол брякнула. И – в двери; вышла на острожный двор, посреди которого копанец был, вроде ставка, где по весне лебеди купались. Стоял в воротах солдат – старенький, ружьецо обнимал, словно палку. Наташа, щеками пылая, прямо на него шла, слезами давясь. А солдат был ветеран – он фельдмаршала Шереметева помнил и чтил. Ну как тут дочку его не выпустить?..
– Иди, иди, касатушка, – сказал ветеран. – Погуляй.
И выпустил из острога в город. А городок Березов дик и печален: осели в сугробах избенки, сверкают льдины в окошках (стекол тут и не знали). Лают собаки, плывет дым, и ничего здесь не купишь, даже калачика. А за пуд сахару кенарского плати девять рублев с полтинкой, – в России на такие деньги мужика с бабой обрести можно… Слезы пряча, шла Наташа через весь город.
Вот и дом, где живет отец Федор Кузнецов – поп березовский. Попадья Наташу в горницу провела, а на лавке спал пьяный поп Федор (человек он был добрый и очень хороший).
– Гляди! – сказала попадья, на мужа указывая. – Во, драгоценный адамант да яхонт мой валяется… Насилу до дому его доперла. А и твой брильянтовый тоже тамотко – у Тишина гуляет!
Через весь Березов, постылый и окаянный, побрела Наташа к подьячему Осипу Тишину. А там – будто кабак скверный: чадно, пьяно, угарно. Сидят рядком-ладком пьяницы березовские: сам Тишин, дьякон Какоулин, обыватель Кашперов да Лихачев Яшка, посередке же – Иван ее, князь Долгорукий, супруг сладостный.
Тишин сразу княгине стаканчик оловянный с винцом стал в губы тыкать: пей да пей, госпожа наша! И плясали вокруг молодухи дьякон с обывателем. И соловьем разливался атаман Яшка Лихачев – вор (из детей боярских), за разбой кровавый в Сибирь сосланный:
Наташа рвала Ивана от сопитух, тащила прочь:
– Пойдем, Иванушко, ты уже пьян и весел… Куды больше-то тебе? Нешто меня тебе не жаль? С утра раннего пьешь…
В сенцах кое-как шапку на Ивана нахлобучила. Потащила домой – в острог! Шел Иван, бывший обер-камергер и гвардии полковник, – подло шел, пьяно, на плече жены вихляясь. Тяжело Наташе мужа тащить – через сугробы, через кочки. Запыхалась… А дома – новая пытка: все Долгорукие, забаве рады, в окна распялились, хихи да хахи строят. И Катька, пиявица царская, на братца пьяного так глядит, будто Наташа не мужа, а падаль домой принесла.
– Коли опять наблюет здесь, – сказала, – так мы убирать не станем. Сама и вытрешь за им!
– Да первый раз мне, што ли? – подавленно отвечала Наташа. – Вам еще не привелось убирать за нами… Иди, Иванушко, ты дома уже. Очухайся!
Потом свекор явился, стал сына палкой лупцевать:
– Почто пьешь беспробудно? Почто без ума пьешь?
Иван под палкой брыкался:
– С горя пью, папенька! Потому как был обер-камергер, а ныне кто я есть?.. Ой-ой, больно мне!
– А кто повинен в том? – не унимался старый князь. – Нешто я тебя разуму не учил загодя? Ежели б государь покойный завещаньице наше апробовал, быть бы Катьке царицей, а тебе – наверху!
Наташа кинулась на защиту Ивана, тут и ей палкой досталось.
– Я тебя, змея подколодная, – сказал ей свекор, – до самого донышка вызнал: ты на наше добро, на долгоруковское, позарилась, да – не вышло, не вышло… Не вышло! Хе-хе!
– Эх, вы… Долгорукие, – укорила его Наташа. – Неужто мне ваше злато надобно? Да и где оно? Что-то не видать.
– Было… было, – заплакал старый князь и ушел…
Иван с полу поднялся. На жену глядел глазами мутными.
– А ты не перечь… тятеньке-то моему! – сказал. – Чать, он не глупее тебя будет. Да и постарше нас с тобою.
– Велика ли заслуга – старым быть? – отвечала Наташа. – Да и старость-то худа у него, без решпекту. Привык за легионом лакеев жить. А теперь… Сымай рубаху-то, – велела она Ивану. – Сымай, я чистую дам. Да ложись спать… – И вдруг кинулась в ноги мужу. – Не пей боле, Иванушко! Не пей… Пожалей меня, горькую. Любить-то как стану! Крошками со стола твоего сыта буду, и ничего не надобно мне иного…
Тут Анька с Аленкой вошли, составили к порогу ведра.
– Катька, – сказали, – воду с реки не понесет: она царица у нас! А мы ишо махонькие… Иди ты по воду!
– Ладно. – Наташа с колен поднялась. – Иванушко, помоги мне воду нести. Надорвусь я, чай, от ведер этих…
– Мое ли дело то? – отвечал муж. – Я обер-камергером был, и теи ведра, в насмешку себе, никак не понесу.
– Ну что ж, – сказала Наташа. – Бог с вами со всеми…
У ворот острожных ветеран-солдат пожалел ее:
– Они-то ссыльные, а ты едина тут будто каторжная…
От реки было идти тяжело. Громыхали обледенелые бадьи. После родов недавних болело у Наташи внизу живота: трудные роды были, а в Березове даже повитухи не сыскалось. Стук да стук – ведра деревянные, плесь да плесь – вода окаянная… Тяжело и горько!
Светились на взгорье желтые окна острога. Вспомнила она тут готовальни свои, на Москве оставленные. Еще и шахматы точеные. Игра тонкая! Да задачи алгебраические, которые решить не успела. Все это заволокло в памяти бедой и одиночеством. «Эх, – думалось, – только б Иван не пил… Все легше было б!»