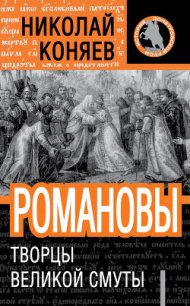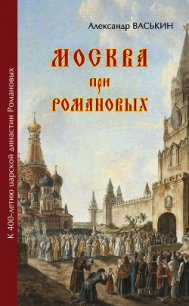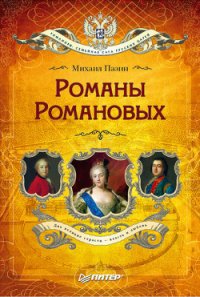Михаил Федорович - Сахаров Андрей Николаевич (читаем книги TXT) 📗
Он долго не мог в себя прийти от изумления, радости и страха. Он ничего не понимал.
Когда Маша очнулась, он с восторгом, жалостью и ужасом глядел на нее, на ее растерзанную одежду, растрепавшиеся волосы, окровавленные руки.
Он старался понять — сообразил и понял наконец, почему она так растерзана, почему она в крови. Как только могла она добраться сюда, через этот забор? Чудная, непонятная девушка.
Он готов был своими слезами смывать кровь с ее ручек.
Что же теперь делать? Ее надо проводить в безопасное место так, чтобы никто ее не видел. Он объяснил ей, чтобы она ждала его здесь, в кустах, что он все устроит и вернется в миг один. Он стал прежним Вольдемаром, горячим, смелым юношей.
Он сообразил, что одному трудно будет все устроить, надо посвятить в секрет Генриха Кранена. На его скромность, на его молчание и преданность можно положиться.
Он нашел Генриха и все рассказал. Тот в первую минуту просто подумал, что королевич сошел с ума, до такой степени этот рассказ представлялся невероятным.
Решили, что надо дождаться, пока стемнеет. Когда наступил вечер, под охраной Генриха, Вольдемар провел в свои покои Машу.
Здесь она смогла вымыться, привести в порядок свою одежду, здесь королевич сам накормил и напоил ее. Это был один из самых счастливых, самых лучших вечеров его жизни.
Королевич сказался нездоровым; двери его заперты на ключ. Маша весь вечер передавала Вольдемару горячим шепотом все, что было с нею в течение этого года до сегодняшнего дня. Говорила она про царевну, но он пропускал мимо ушей слова эти; до царевны ему уже не было никакого дела. Он любил одну Машу. Он восторженно глядел на нее, и казалось ему, что такой чудной красавицы никогда не видал он в жизни.
Он восхищался ее смелостью, страдал всем сердцем, слушая об ее несчастьях. Наконец, когда уже ничего не осталось ей рассказывать, само собою представился вопрос: что же делать дальше?
В терем вернуться ей невозможно, об этом нечего и думать, это хорошо понимали как он, так и она…
Было уже поздно, все в доме заснули, но им не до сна. Сидят они рядом, в уголке на широкой лавке, окруженные мягкими, алыми подушками. И Маша, и Вольдемар не замечают, что крепко держатся они за руки и глядят друг на друга влюбленными глазами. Ничего не видят они, не знают, где они и что с ними…
Они в объятьях друг друга, и Маша не говорит ему о том, что он обознался, что он принял ее, бедную простую девушку-сироту, за царевну… Он целует ее, и она отвечает ему безумными поцелуями… И не слышат они, как кругом, вокруг них и над ними, хохочут-заливаются бесенята.
Бесенята сшутили ловкую шутку и рады — смеются.
XVII
Когда ясное солнце заглянуло в маленькие оконца и разогнало весь сладкий сумрак ночи, Маша долго была в забытьи, не могла сознать и понять действительности.
Но действительность эта все громче и громче врывалась вместе с дневными звуками в тихий уголок, где лежала девушка, наконец призвала ее к себе и показала ей без прикрас, в которые любовный хмель может нарядить что угодно.
Подняла Маша свою отяжелевшую голову с мягких подушек, огляделась испуганным взглядом — и горько заплакала. Хоть и была она легкомысленным, беспечным бесенком, хоть никто и не внушал ей никогда толком понятия о добре и зле, но все же теремная жизнь и плохие примеры, слишком часто виденные ею, не искоренили в ней этих врожденных понятий.
До сих пор, даже после самых злых своих шалостей, от которых приходилось страдать людям, она никогда не задумывалась над своими поступками. Когда Настасья Максимовна или другой кто из старших, поймав ее на чем-либо недолжном, с сердцем на нее накидывались и кричали: «Стыда в тебе нет!… Совесть-то у тебя где? Куда ты ее спрятала?» — Маша действительно чувствовала, что ей ничуть не стыдно; что же касается совести — она чистосердечно могла поклясться, что никуда ее не прятала, так как решительно не знает и не понимает, какая это такая штука — совесть.
Во всю свою жизнь только раз один испытала она стыд. Было это позапрошлым летом. Гуляла она с царевной своей и с боярышнями по саду.
Девочки резвились, бегали взапуски, играли в горелки, пели песни, кричали и визжали так, что княгиня Марья Ивановна Хованская, бывшая при царевне, несколько раз зажимала себе пальцами уши и наконец, видя, что этого девичьего, совсем еще детского веселья не уймешь и что пуще и пронзительнее всех визжит царевна, ушла подальше: Если Ирина визжала пронзительнее всех, то проворнее и задорнее всех оказывалась, конечно, Маша. Вся раскрасневшаяся, с растрепавшейся толстой косой и обезумевшими от веселья, расширившимися глазами, она кружилась и вертелась, как волчок, мчалась, как птица, едва касаясь ногами густой и мягкой травы лужайки. Она ничего не сознавала, вся охваченная развивавшейся в ней силой жизни.
Вдруг, стремясь схватить с визгом спасавшуюся от нее подругу, она споткнулась, упала со всего размаху и о попавшийся острый черепок сильно разрезала себе ногу. Кровь так и хлынула. Все кинулись к ней, а царевна, увидя кровь, побледнела и перепугалась ужасно.
— Матушки! Да ведь она изойдет кровью! — наклоняясь над Машей, взволнованно говорила Ирина. — Бегите вы все скорее, бегите к княгине Марье Ивановне, где это она?… Зовите ее сюда!… Да воды несите, тряпиц…
Боярышни со всех ног бросились исполнять царевнины приказания, а сама Ирина осталась со своей любимицей, которая хотела было подняться на ноги.
— Боже тебя избави! — крикнула испугавшаяся ее движения царевна. — Не шевелись, не то кровь еще пуще побежит… Да чулок-то, чулок сними, а то кровь запечется, и тогда не отодрать его будет… Беда!…
Но Маша, побледневшая было не столько от боли, сколько от неожиданности и перепугу, вдруг вся так и вспыхнула и подобрала ногу, очевидно не желая снимать чулка.
— Что ты?… Снимай же скорее чулок! — волновалась и приказывала царевна. Маша не слушалась и краснела еще больше. Тогда Ирина, не говоря худого слова, сама стащила с нее чулок. В это время прибежали с кувшином воды две боярышни.
— Ах ты, Машутка, что это у тебя на ноге-то? — наклоняясь и в ужасе, смешанном с отвращением, крикнула одна из боярышень. — Меченая ты, да и метка у тебя какая противная— мышь большущая, с хвостом!… Стыд какой!
Действительно, у Маши на ноге была отметина — родимое пятно большое, черное, густо покрытое как бы шерстью. Оно нисколько не безобразило ее стройную ногу; но еще до жизни в тереме царском, еще у себя дома, при отце с матерью, все попрекали маленькую девочку этой ее «мышью». Она привыкла смотреть на свое странное родимое пятно как на что-то позорное, стыдное и, поступив в терем, тщательно его ото всех скрывала. А тут вот оно и обнаружилось, да вдобавок при царевне… а царевна смотрит…
Маша закрыла лицо руками, и хотелось ей провалиться сквозь землю. Никогда и не думала она, что можно так стыдиться, совсем она со стыда сгорела… А боярышни смеются, дразнят «мышью»…
Вот теперь, как только пришла она в себя среди королевичевой светлицы, прежде всего почему-то вспомнился ей этот случай во всех подробностях — и то же чувство стыда как в тот день, охватило ее всю. И, как и тогда, захотелось ей провалиться сквозь землю, чтобы никто и никогда не увидел ее больше.
Но мало того, что-то уж совсем неведомое, никогда еще в жизни не испытанное схватило ее за сердце и так засосало, что тошно сделалось.
Упала она лицом в подушку и зарыдала.
«Что я наделала, что наделала! — не думалось, а чувствовалось ею мучительно и невыносимо. — Окаянная я, подлая девчонка!… Царевна моя… золотая моя, добрая царевна!… Ждет она меня… плачет… о нем нежно думает… а я!… Убить меня мало!… Куда мне деваться?… Побегу, утоплюсь в Москве-реке— одна мне и дорога!…»
В это время дверь скрипнула, вошел кто-то. Маша крепче уткнулась в подушку и безнадежнее зарыдала. Не видела она, но знала, наверно знала, кто это вошел, и стало ей еще тошнее, еще невыносимее.