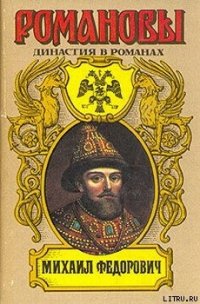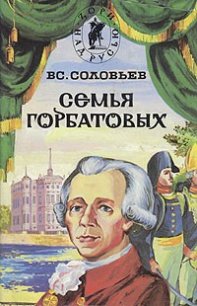Михаил Федорович - Соловьев Всеволод Сергеевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT, FB2) 📗
— Одно скажите мне, Христа ради, — вопила царица, — жив ли он, жив или уже нет его, желанного?
Венделин Сибелиста стал уверять, что царь еще жив, что вот он скоро придет в себя, чтобы царица не плакала и удалилась, ибо ее слезы и крики только могут повредить больному. Но Евдокия Лукьяновна не двигалась с места, пока наконец царь не открыл глаза и не пошевелился. Тогда она сама, почти уж потеряв сознание, допустила увести себя в терем.
Между тем Михаил Федорович от разных обкуриваний и примочек вышел из своего оцепенения, получил способность говорить. На вопросы дохтуров, что он чувствует, он ответил:
— Ничего не чувствую, нигде не болит, только дышать трудно. Окна отворите, двери… дайте воздуху.
Его приказание было тотчас же выполнено.
— Оставьте меня все, оставьте одного, — прошептал царь и махнул рукою.
Все вышли. Дохтуры и самые приближенные остались в соседнем покое, разместились кто где и прислушивались, затаив дыхание, не произнося ни слова, только переглядываясь.
Царь скоро, очевидно, заснул. Сибелиста решился осторожно прокрасться в опочивальню, подобрался к кровати, прислушался и затем, возвратясь, объявил:
— Дышит изрядно, авось отойдет. Сил у него мало; не надо было идти в церковь.
Бояре шепотом заговорили:
— Как тут не идти в такой день!
— И ведь как бодр да радостен казался, от сердца отлегло…
— А тут вот какое горе!
Стали приставать к дохтурам, выпытывать: опасен или нет, встанет ли? — дохтуры качали гловами:
— Как знать! Всяко бывает, может, еще и поправится ненадолго, а все же опасен, ничего хорошего не видно.
Вместо веселья и радости этого всегда такого торжественного дня в царских хоромах было теперь великое уныние и затишье. О именинных столах никто не думал.
Скоро Венделина Сибелиста позвали к царице, ей тоже стало совсем худо.
Время от времени ближние бояре, то один, то другой, осторожно входили в опочивальню, глядели на царя, прислушивались и уходили. Он все спал. Проспал он почти до самого полдня, но вот пошевельнулся и застонал.
Сибелиста еще не возвратился от царицы, а потому дохтур Граман кинулся к царю, подал ему лекарство.
Михаил Федорович лекарство выпил, а на вопрос дохтура, как он себя чувствует, ответил:
— Ничего. Все уходите!
Он, очевидно, собирался с мыслями и еще не ясно понимал, где он и что с ним такое. Наконец сознание всего, что было, вернулось к нему.
«Что же это, помираю я? — подумал он. — Неужто помираю в день такой?»
Он стал вслушиваться в свои ощущения, бессознательно желая решить вопрос, откуда идет смерть, где она стучится. Но, к изумлению, все внутри его было тихо, никакой боли. Напротив, он чувствовал даже большое наслаждение лежать так тихо на своей широкой мягкой кровати: приятная слабость оковывала все его члены; в голове стало совсем ясно; в сердце не было ни тоски, ни томления, никакие тревожные, черные мысли не смущали.
Царь перевел глаза к открытому окну, из которого лились солнечный свет и тепло летнего полдня. Он расслышал где-то вдалеке птичье щебетанье; потом уж близко, у самого окна, заворковали голуби; какой-то неопределенный гул доносился издалека…
Царь жадно вслушивался во все эти звуки, и его снова, как утром, потянуло на воздух, к солнцу, к теплу. Он сделал движение, чтобы встать и подойти к окну, но встать не мог, так велика была слабость. С большим усилием приподнял он руки и тихонько хлопнул в ладони. Сейчас же несколько человек показались у двери.
— Я не выйду, — тихим голосом произнес царь, — хоть мне и гораздо лучше. Пошлите к царице сказать, что мне лучше, да пусть все будет как положено… За столы, за столы идите, пируйте, чтобы все было как всегда!…
Его приказание было исполнено, но пированье вышло печальное; даже первейшие любители покушать и попить за царским столом и те держали себя в этот день как постники.
Около восьми часов вечера, незадолго до солнечного заката, из опочивальни государя стали все громче и все чаще раздаваться стоны. Снова собрались дохтуры со своими вновь приготовленными лекарствами, но царь отказывался теперь принимать эти лекарства, громко стонал и охал.
— Ох, внутренности все терзаются! — стонал он. — То огнем жжет, то холод по всему телу разливается!…
Прошло еще с полчаса, мучения не ослабевали.
— Позовите патриарха, — приказал царь, — царицу зовите, царевича с боярином Морозовым…
Скоро в опочивальне появилась сухая, согбенная фигура патриарха. Он благословил царя и тихим, старческим голосом стал говорить ему обычные речи, подавать надежду на милость Божию, на выздоровление.
Царь слушал его или, вернее, старался слушать внимательно, проникнуться его словами, но между тем видно было, что неотпускающие мучения время от времени становятся так сильны, что поглощают все его внимание.
Вот появилась, едва держась на ногах, царица. Ее всеми мерами уговорили не выказывать своего отчаяния, поселя в ней надежду, что царь еще не при смерти, что болезнь может отпустить и что пуще всего не следует пугать его.
Царица удерживала слезы. Она почти упала в кресло у кровати рядом с патриархом и обратила на него умоляющий взор. Тот ответил ей спокойным и в то же время строгим взглядом, и взгляд этот, более чем все уговаривания, помог ей сдержать рыдания, подступавшие к горлу.
Наконец появился и шестнадцатилетний царевич Алексей Михайлович. Его юное красивое лицо было бледно, на глазах стояли, не смея выкатиться, слезы.
Он робко подошел к отцовской кровати, припал губами к холодной, опухшей руке царя и замер.
Царь с легким стоном приподнял другую руку и положил ее на голову сына.
— Где же Борис Иванович? — прошептал он.
— Я здесь, государь, — ответил Морозов, подходя ближе к кровати.
Царь посмотрел на красивое, бледное, еще более бледное от густой, обрамлявшей его черной бороды лицо своего ближнего боярина, но не сказал ни слова.
Не один царь смотрел теперь на Морозова, все взгляды были обращены на это несколько мрачное, бледное лицо с почти совсем опущенными глазами, которые оттого, верно, и опускались, что боярин боялся выдать свои мысли.
А может, и мыслей особенных у боярина в этот час не было, он давно уже приготовился к этому дню, давно уже видел, что царя скоро не станет и что ему, а никому другому, придется играть первую роль в государстве. Давно уже, день за днем, шаг за шагом, подготовил он себе эту роль и был спокоен.
Прошло еще с полчаса времени, усилились страдания царя, снова заметался он на кровати, снова застонал; потом стихли его стоны, ему опять стало спокойнее и лучше. Вдруг он заговорил хоть и тихим, но твердым голосом:
— Чувствую я, пришел конец мой. Теперь никакие уж лекарства не нужны мне, все кончено. Смерть пришла — я это знаю, — так угодно Богу.
Он слабым движением руки поманил к себе царицу. Она, уже не в силах сдерживать рыданий, упала головой на грудь его.
— Не плачь, жена, — как будто издалека откуда-то слышала она над собой его голос. — Зачем плакать? Господь знает, что делает. Время пришло… Прости, жена, коли я был виноват в чем перед тобою, отпусти мне… Сын!
Морозов подвел Алексея и помог ему опуститься на колени перед кроватью.
— Сын мой! — уже иным, громким и звучным голосом произнес царь. — Благословляю тебя на царство! Богу угодно отозвать меня к себе, да будет Его святая воля! Юн ты, неопытен, но и сам я таким же, как ты, юношей принял царство. Бог не оставил меня, нашел я руководителей и защитников, и тебя не оставит Бог, коли ты Его забывать не будешь… Боярин наш, Борис Иванович, — все тем же голосом, громким и звучным, продолжал царь, глядя на Морозова, — слушай: тебе, боярину нашему, приказываю я сына и со слезами говорю…
Голос его дрогнул, и из глаз брызнули слезы…
— Как нам ты служил и работал, с великими усердием и преданностью, оставя дом и покой, пекся об его здоровье и научал страху Божьему и всякой премудрости, жил в нашем доме безотлучно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюдал его как зеницу ока… так и теперь служи…