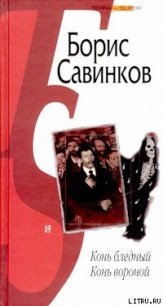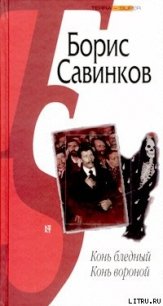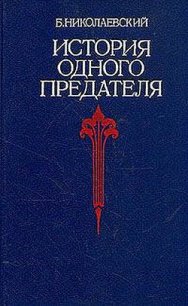Воспоминания террориста - Савинков Борис Викторович (В.Ропшин) (читать книги без регистрации TXT) 📗
Я случайно разбил у себя зеркало. Сазонов пошел в швейцарскую и стал громко жаловаться на свою судьбу.
— Вот, только устроился… шабаш… прогоняют… места лишился.
— За что?
— Зеркало разбил.
Швейцар удивился.
— Неужто за зеркало? Ну?
Сазонов закрыл руками лицо:
— Да что… Разбил я это зеркало, комнату прибирал… Барыня услыхала, как крикнет: ты, говорит, сукин сын, зеркало разбил, дрянь…
— Ну, а ты что же?
— Я-то? Я ей говорю: от такой же, говорю, слышу.
Швейцар всплеснул руками:
— Ах, ты!.. Барыне так и сказал. От такой же, сказал, слышу… Ловко… Как же ты осмелел… Ну, а дальше что было?
— А дальше барыня ну визжать… Прибежал барин, ни слова не говоря, хвать и в дверь выкинул…
— Ни слова не говоря, говоришь?
— Ни слова не говоря…
Швейцар задумался.
— Ну, плохо твое дело… Однако, все-таки иди, — прощенья проси. Авось простят.
— Не простят: барыня злющая.
— А ты все-таки иди, попробуй.
Мы, конечно, не простили Сазонова, и он в тот же день выехал со двора. Вслед за ним уехал и я в Москву. На квартире остались Дора Бриллиант и Ивановская. В Москву же должны были приехать Каляев и Швейцер. Там предполагалось обсудить в подробностях план покушения.
К этому времени все члены организации не только близко перезнакомились между собою, но многие и интимно сошлись. Была крепкая спайка прошлого — неудача 18 марта и смерть Покотилова. Эта спайка связала и новых членов организации, и уже давно стерлась грань между старшими и младшими, рабочими и интеллигентами. Было одно братство, жившее одной и той же мыслью, одним и тем же желанием. Сазонов был прав, определяя впоследствии, в одном из писем ко мне с каторги, нашу организацию такими словами: «Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство было проникнуто таким духом, что слово „брат“ еще недостаточно ярко выражает сущность наших отношений».
Эта братская связь чувствовалась нами всеми и вселяла уверенность в неизбежной победе.
VIII
Швейцер опоздал в Москву, и московские совещания прошли без него. Происходили они обыкновенно в Сокольничьем парке, и на них присутствовали: с решающим голосом — Азеф и, кроме того, Каляев, Сазонов и я. Обсуждался подробный план покушения.
Наученные опытом 18 марта, мы склонны были преувеличивать трудности убийства Плеве. Мы решили принять все меры, чтобы он, попав однажды в наше кольцо, не мог из него выйти. Всех метальщиков было четверо. Первый, встретив министра, должен был пропустить его мимо себя, заградив ему дорогу обратно на дачу. Второй должен был сыграть наиболее видную роль: ему принадлежала честь первого нападения. Третий должен был бросить свою бомбу только в случае неудачи второго, — если бы Плеве был ранен, или бомба второго не разорвалась. Четвертый, резервный метальщик должен был действовать в крайнем случае: если бы Плеве, прорвавшись через бомбы второго и третьего, все-таки проехал бы вперед, по направлению к вокзалу. Способ самого действия бомбой был тоже предметом подробного обсуждения. Был, конечно, неустранимый риск, что метальщик промахнется, перебросит или не добросит снаряд. Во время этого обсуждения Каляев, до тех пор молчавший и слушавший Азефа, вдруг сказал:
— Есть способ не промахнуться.
— Какой?
— Броситься под ноги лошадям.
Азеф внимательно посмотрел на него.
— Как броситься под ноги лошадям?
— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба, и тогда остановка, или, если бомба не разорвется, лошади испугаются, — значит, опять остановка. Тогда уже дело второго метальщика.
Все помолчали. Наконец, Азеф сказал:
— Но ведь вас наверно взорвет.
— Конечно.
План Каляева был смел и самоотвержен. Он, действительно, гарантировал удачу. Но Азеф, подумав, сказал:
— План хорош, но я думаю, что он не нужен. Если можно добежать до лошадей, значит, можно добежать и до кареты, — значит, можно бросить бомбу и под карету или в окно. Тогда, пожалуй, справится и один.
На таком решении Азеф и остановился. Было решено также, что Каляев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метальщиков.
— После одного из этих совещаний я пошел гулять с Сазоновым по Москве. Мы долго бродили по городу и, наконец, присели на скамейке у храма Христа Спасителя, в сквере. Был солнечный день, блестели на солнце церкви. Мы долго молчали. Наконец, я сказал:
— Вот, вы пойдете и наверно не вернетесь…
Сазонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и открытое.
— Скажите, — продолжал я, — как вы думаете, что будем мы чувствовать после… после убийства?
Он, не задумываясь, ответил:
— Гордость и радость.
— Только?
— Конечно, только.
И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня». К гордости и радости применилось еще другое, нам тогда неизвестное чувство.
Из Москвы Азеф и Сазонов уехали на Волгу, а я и Каляев вернулись в Петербург. На Николаевском вокзале, перед самым отходом поезда, на перроне, я заметил широкую, мускулистую фигуру Швейцера. Я окликнул его. Через минуту он вошел ко мне в вагон, положил в сетку свой багаж, и мы вышли с ним в коридор.
— Как дела?
Я рассказал, что наблюдение закончено, и передал решение московского совещания. Он сдержанно улыбнулся:
— Ну, и у меня все готово.
— Вы привезли динамит?
— Больше пуда.
— Где же он?
Он кивнул на вагон.
— В сетке?
— Да, в сетке. Если взорвет, — не услышим: нас с вами первых взорвет.
Он был, как всегда, очень сдержан и говорил мало. Но было видно, что он рад и тому, что так скоро и хорошо исполнил свою трудную задачу, и тому, что наблюдение закончено, и тому, что мы, наконец, приступаем к покушению.
По приезде в Петербург, я не вернулся на нашу квартиру, а поселился в Сестрорецке по паспорту Константина Чернецкого. На 8 июля было назначено покушение. Необходимо было еще раз проверить поездку Плеве к царю и условиться между собою о многочисленных мелочах.
В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант. Мы ушли с нею в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась смущенной и долго молчала, глядя прямо перед собою своими черными опечаленными глазами.