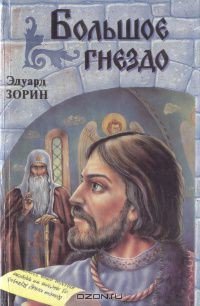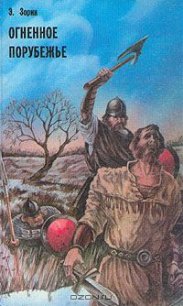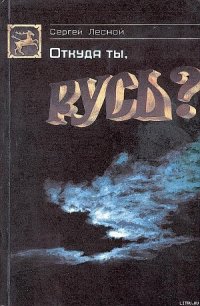Богатырское поле - Зорин Эдуард Павлович (серии книг читать бесплатно .TXT) 📗
Человек зашуршал соломой, загремел, как пес, железной цепью.
— Чей ты? — спросил Давыдка.
— Незнамко я,— сипло отозвалась тьма. Человек поперхнулся и закашлялся, будто и впрямь залаяла собака.
— Откудова будешь?
— Из Незнамкина...
— Ишь,— проворчал Давыдка.— Молод ты аль стар? Когда в поруб угодил?
— Когда угодил — не чел, а молод или стар — не ведаю. В порубе все мы — черви.
«Уж не мой ли узник?» — подумал Давыдка и стал припоминать, кого бросал в эту нору. Но ведь давно ли сбивали с порубов решетки, выводили на волю пленников. Отчего же этот не ушел?
Снова зашуршала в углу солома, звякнула цепь. Осипший голос запел:
А жил-был дурень,
А жил-был бабин,
Вздумал он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Отошедши, дурень,
Версту, другу,
Нашел он, дурень,
Две избы пусты,
В третьей людей нет...
Узнал Давыдка узника. По песне узнал гусляра Ивора. Вспомнил: пришел Ивор из Чернигова — в коротком скоморошьем платье, с гуслями за спиной. Он и тогда уж был не молод, и слухи о нем ходили по всей Руси. Сказывали, певал он и в Новгороде, и в Киеве. Не одной шубой был жалован с боярского плеча. Но охоч был Ивор до сладкого меду, а еще больше любил он правду, и хоть жаловали его бояре шубами, а выпроваживали из своих вотчин — собирал он народ на площадях, сказывал ему былины, в которых добрыми молодцами были крестьяне и каменщики, а дурнями — бояре да огнищане, да боярские и огнищанские сыновья.
Донесли князю Андрею о прибытии Ивора во Владимир, и повелел князь Давыдке сыскать того сказителя и привести его в Боголюбово на почестен пир.
Сыскать Ивора — дело пустяковое. Не иголка в стогу— певец на миру. Передал ему Давыдка княжескую волю. Выслушал его Ивор, упираться не стал. Дело для пего привычное — петь перед князьями. Бросил он за спину гусли, сел на коня и поспешил с Давыдкой к Боголюбову. Подъезжая, подивился на славен княж-град, перекрестился на церковь да прямо с коня — в палаты.
Привел Давыдка гусляра, как и повелел князь Андрей, в большую трапезную. В трапезной накрыт стол на всю длину, на столе — яства чудесные, меды пряные, душистые вина из дальних латинских стран. Князь Андрей поглядел на певца, велел налить ему полную чашу, подождал, пока выпьет, а потом и говорит:
«Много наслышаны мы о тебе, Иворка. Сказывают, знаешь немало ты былин, да правдин, да песен свадебных и застольных. Певал ты и в Киеве, и в Чернигове, и в Ростове, и в Новгороде. Спой же и нам свои песни. А мы послушаем тебя, вспомним время богатырское да выпьем вина за твое здоровье».
Выслушав князя, сел Ивор на лавку, провел пальцами по гусельным струнам и запел об Илье Муромце:
Стал князю Илья Муромец выговаривать:
«Ты нас не кормишь, не поишь, не жалуешь.
Есть-то пить во Киеве есть кому,
А заступить за Киев-град некому...»
Хорошо пел Ивор, мед принимал с поклоном. А когда опьянели гости, когда попадали те, что послабее, под стол, завел правдину о лыковом горе, о богатстве да о бедности, о том, что и глупый в богатстве умен, а умный в бедности — дурак. О боярах и о главном боярине сказывал Ивор, о том, что рядится он в одежды бархатны, а сердцем лют, нравом гневлив и в несправедливости своей хоть и боголюбив, а творит дела противубожеские.
А и горя, горе-гореваньица!
А в горе жить — некручинну быть.
Нагому ходить — не стыдитися,—
лихо подпевал себе Ивор.
Нахмурился князь Андрей. Брови сдвинул, пальцы запустил в бороду. Перебирает пальцами волоски, перст нями посверкивает. А как кончил Ивор, велел поднести ему самую большую чашу. И благодарил певца такими словами:
«А и хорошо сказываешь, Иворка, все нутро мне перевернул. Так сказываешь, что и подумал я: а не посидеть ли тебе в моем порубе? Поруб мой не простой — княжеской. Посидишь в порубе — сложишь песню. И кормить тебя будут вдоволь, и поить — по-княжескому. И на цепь тебя прикую — со свово медведя велю снять,— прикую на цепь княжескую. Аль не щедр князь Андрей, Иворка?..»
«Спасибо тебе, князь, на добром слове,— поклонился ему Ивор.— Полземли обошел, а щедрот таких не видывал...»
Изломали Иворовы гусли, бросили Ивора в поруб. Бросили да и забыли о нем. Не поскаредничал князь, заплатил ему сполна. Обессилел гусляр, не смог выбраться из норы, когда посбивали замки. А потом повесили на поруб новые крепкие запоры.
Давыдке боль защемила сердце. Будто и он виноват. А виноват ли? Не свою исполнял он волю. Что же до песни Иворовой, то и Давыдке она по душе. Все в ней верно — хорошая песня. Только зачем было петь ее, да еще на пиру у князя?!
Душно в порубе, смрадно. Опустился Давыдка на солому, загрустил под Иворову тихую песню. Ни звука с воли не просочится в поруб.
Так и задремал. А когда проснулся, обступили его невеселые думы. Вспомнил Заборье, Аленку, мать с кочергой у битой печи, деревянного петуха над берестяной крышей родной избы.
«Не орел ты и не сокол,— сказал он себе с сердцем,— галица худородная».
Прислушался к гомозившемуся в углу Ивору.
— Эй, старче, худо, что ли?
— Ничего, миленький,— отозвался Ивор.— Живу помаленьку. А ты, добрый молодец, как в яму угодил? Аль чего загрезил?
— С боярином счеты сводил...
Ивор захихикал, заохал. Не то проговорил, не то простонал:
— Очи свербит. Ослеп я...
— Терпи, дедушка, терпи.
4
Утром, ни свет ни заря, разбудил Аленку Никитка. Потряс ее за плечо:
— Вставай.
По избе уже ходили люди. Карпуша прыгал у печи возле незнакомой Аленке бабы — должно быть, хозяйки. Баба, охватив тряпицей горшок, вытряхивала из него в миску пареную репу с луком. Горбун Маркел строгал в углу палку — вырезывал на ней потешную голову с усами и бородой,— поглядывал в сторону печи. С улицы пришли хозяин и Радко. Хозяин ласково пригласил гостей к столу:
— Проголодались, поди?
Поели — дружно похлебали щи из общей деревянной миски, пожевали репу. Перекрестились на образа.
— Ну, мил человек, куда теперь путь наладим? — сказал Радко, сытыми глазами разглядывая Никитку с Аленкой.— По всему видать, люди вы к скоморошьему ремеслу непривычные, с нами вам не по пути.
Горбун засмеялся, провел облизанной ложкой по бороденке:
— Беглые они, дяденька,— проскрипел, будто по дереву деревом.— Им и податься-то некуда.
Никитка осадил его взглядом.
— Дело у нас во Владимире,— сказал он.
— Ну, коли дело,— кивнул Радко.— А то приходите на позорище. Ежели ночлега не найдете, изба знаете где. Примем, не спросим, кто такие.
— Спасибо, добрые люди,— поклонился Никита скомороху. Поклонился и хозяину.
Аленка тоже поклонилась:
— Спасибо за хлеб-соль.
Карпуша, любовно заглядывая Аленке в глаза, проводил их до порога. Радко сказал с теплотой в голосе:
— Ишь как малец привязался. Возвращайтесь.
Перекинув суму через плечо, Никитка зашагал по дороге обратно к Медным воротам. Город знал он хорошо — не заблудится. Аленка едва поспевала за ним. Маленько покружив по узким и грязным переулкам, они вышли к площади.
Это было самое высокое и чистое место в городе. Улицы выстланы бревнышками, терема новые, с узорчатыми крылечками и охлупами. Над теремами золотились цер ковные купола, а за ними высился Успенский собор, у белокаменных Золотых ворот виднелся Княжий дворец — деревянный, резной, будто пряничный.
Аленка остановилась, дернула Никитку за рукав.
— Красота-то какая-я!
— Красота! — разъяснились радостью и тут же померкли Никиткины широко раскрытые глаза.— Только нынче в оба гляди, как бы чего не разорили... Вишь, бояре с утра пируют.
На высоком крыльце княжеского терема появился пьяный дружинник. Из окон подворотной избы нестройно доносились песни.