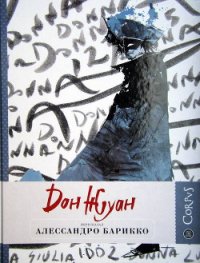Обрученные - Мандзони Алессандро (электронная книга TXT) 📗
Мы дали лишь наименее жуткое и наименее грустное из того, что можно было видеть вокруг, мы говорили лишь о здоровых, о зажиточных людях. После такого множества картин страданий и памятуя о ещё более тяжких, через которые нам предстоит провести читателя, мы не будем сейчас задерживаться, рассказывая о том, какое зрелище являли зачумлённые, едва передвигавшие ноги или валявшиеся на улицах — бедняки, дети, женщины. Зрелище это было таково, что каждый свидетель его мог, пожалуй, найти какое-то безнадёжное утешение в том, — что на потомков производит впечатление огромное и удручающее, — утешение, я повторяю, при мысли и созерцании того, как мало людей осталось в живых.
Ренцо совершил уже добрую часть своего пути по этому царству отчаяния, как вдруг, ещё на довольно большом расстоянии от улицы, куда ему предстояло свернуть, он услышал доносившийся оттуда смутный гул, среди которого можно было различить знакомый и страшный звон колокольчика.
Дойдя до угла этой улицы, одной из самых широких, он увидел стоявшие посреди неё четыре повозки. Подобно тому как на хлебном рынке люди снуют взад-назад, нагружая и опрокидывая мешки, было движение и в этом месте: одни монатти входили в дома, другие выходили оттуда с грузом на плечах и клали его на ту или другую повозку. Некоторые трупы были в красной форменной одежде, другие без этой особой приметы, многие с отличием ещё более гнусным — с разноцветными султанами и кистями, которыми эти презренные твари украшали себя, веселясь среди огромного всеобщего горя. То из одного, то из другого окошка раздавался зловещий окрик: «Монатти, сюда!» И из этого грустного сборища ещё более зловеще откликался грубый голос: «Сейчас, сейчас!» Возможно, то были жильцы, которые ворчали и торопили, а монатти отвечали им ругательствами.
Выбравшись на улицу, Ренцо прибавил шагу, стараясь не обращать внимания на эти препятствия, разве только по необходимости, чтобы обойти их. Но вдруг взгляд его упал на нечто необычное, вызывающее сострадание, такое сострадание, которое заставляет невольно остановить на нём взор, так что Ренцо задержался почти помимо своей воли.
На пороге одной из дверей показалась, направляясь к печальному кортежу, женщина, наружность которой говорила о поздней, но ещё не миновавшей поре молодости. На лице её сквозь дымку печали и горя проступали следы красоты, не уничтоженной тяжким страданием и смертельной тоской, той красоты, томной и вместе с тем величавой, которая сверкает в людях ломбардской крови. Походка у неё была усталая, но не одряхлевшая, на глазах не было слёз, но видно было, что она пролила их немало; в её страдании была какая-то кротость и затаённость, обличавшие душу, вполне сознающую своё горе и готовую претерпеть его. Но не только один её вид, посреди этого моря скорби, возбуждал к ней особую жалость и воскрешал это чувство, в ту пору давно погасшее в усталых сердцах. Она несла в своих объятиях мёртвую девочку лет девяти, нарядную, с волосами, расчёсанными на пробор, в белоснежной одежде, словно эти руки украсили её к празднику, уже давно обещанному и теперь полученному ею в награду. И девочка не лежала у неё на руках, а сидела, прислонившись грудью к груди матери, словно живая, и только белая, точно восковая ручонка, тяжёлая и безжизненная, свешивалась сбоку, и голова покоилась на материнском плече в оцепенении более сильном, чем сон. Что это была мать, об этом, помимо сходства, ясно говорило лицо той из них, которая ещё была способна что-либо чувствовать.
Гнусный монатто подошёл, чтобы взять из рук женщины девочку, однако с видом какой-то необычной для него почтительности, с невольным колебанием. Но она, отступив назад, не выражая, однако, ни негодования, ни презрения, сказала:
— Нет, погодите, не трогайте её пока. Я сама хочу положить её на повозку. Вот возьмите. — С этими словами она разжала руку, показывая кошелёк, и бросила его в руку, подставленную монатто. Потом продолжала: — Обещайте мне не снимать с неё ни единой ниточки и не допустить, чтобы другие посмели сделать это. Заройте её в землю так, как она есть.
Монатто прижал руку к груди и затем торопливо, можно сказать почтительно, скорее в силу незнакомого ему чувства, которое словно покорило его, чем ради неожиданного вознаграждения, бросился расчищать на повозке местечко для маленькой покойницы. Поцеловав дочь в лоб, мать положила её туда словно в постель, оправила её, накрыла белым покрывалом и произнесла последние слова:
— Прощай, Чечилия, покойся в мире! Сегодня вечером придём и мы, чтобы уже никогда не расставаться. Теперь же — молись за нас, а я буду молиться за тебя и за других. — Потом, вновь обернувшись к монатто, она сказала: — К вечеру, когда будете проезжать мимо, поднимитесь наверх захватить меня, и не одну.
С этими словами она вернулась в дом и минуту спустя показалась в окне, держа в объятиях другую девочку, поменьше, ещё живую, но уже с печатью смерти на лице. Она стояла и с содроганием смотрела на эти недостойные похороны своей старшей дочери, пока повозка не тронулась с места и она могла её видеть. Потом женщина исчезла. Да и что ещё оставалось ей делать, как не уложить в постель своё единственное оставшееся в живых дитя и самой лечь рядом, чтобы вместе умереть? — подобно тому как под ударом косы, срезающей на лугу все травы, уже пышно распустившийся на стебле цветок падает вместе с ещё только раскрывающимся бутоном.
— О господи! — воскликнул Ренцо. — Внемли ей, прими к себе и её и малютку. О, сколько они страдали, сколько страдали!
Придя в себя от этого необычайного потрясения и стараясь снова припомнить свой маршрут, чтобы решить, сворачивать ли ему в первую улицу и куда именно, вправо или влево, он вдруг услышал доносившийся оттуда новый непонятный шум — смешение повелительных окриков, глухих стонов, женского плача, детского визга.
Он двинулся дальше с привычным печальным и смутным ожиданием в душе. Дойдя до перекрёстка, он увидел с одной стороны движущуюся беспорядочную толпу и остановился, чтобы пропустить её. То были больные, которых вели в лазарет. Одни, грубо подталкиваемые, тщётно пытались сопротивляться, крича, что хотят умереть в своей постели, и отвечая бесполезными проклятиями на ругательства и окрики сопровождавших их монатти. Другие шли молча, не обнаруживая ни скорби, ни какого-либо иного чувства, словно обезумев. Женщины с грудными младенцами на руках; дети, напуганные окриками, стенаниями и всем этим сборищем больше, чем смутным страхом смерти, с громкими воплями призывали матерей, преданные их объятиям, и рвались домой. Увы! быть может, мать, о которой они думали, что она спит дома в своей кровати, повалилась на неё, внезапно настигнутая чумой, и лежит теперь там без сознания, пока её не отвезут на повозке в лазарет или прямо в могилу, если повозка приедет слишком поздно. А возможно, — о несчастье, достойное ещё более горьких слёз, — эта мать, подавленная собственными муками, забыла обо всём, даже о своих детях, и думала лишь об одном: умереть с миром. И всё же и среди этого общего смятения попадались примеры, стойкости и человеколюбия: отцы, матери, братья, сыновья, супруги поддерживали дорогих своих близких и сопровождали их словами утешения, и не только одни взрослые, но и маленькие девочки и мальчики, тащившие своих младших братишек, с рассудительностью и состраданием взрослых уговаривали их быть послушными, уверяя, что они идут в такое место, где за ними будут ухаживать, чтобы их вылечить.
При виде этого грустного и трогательного зрелища одна мысль не давала покоя и непрестанно волновала нашего путника. Ведь дом, который он разыскивал, должен был находиться где-то поблизости, и кто знает, быть может в этой самой толпе… Но когда всё шествие прошло мимо и это сомнение рассеялось, Ренцо обратился к шедшему позади монатто и спросил его про улицу и про дом дона Ферранте. «Ступай к чёрту, невежа!» — раздалось в ответ. Ренцо и не подумал ответить на это как следовало бы, но, заметив в двух шагах комиссара, который замыкал шествие и имел несколько более человечный вид, обратился к нему с тем же вопросом. Тот, указав палкой в направлении, откуда шёл сам, сказал: «Первая улица направо, последний большой дом слева».