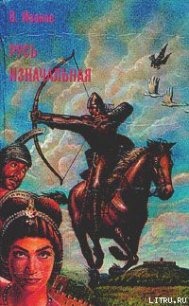Русь Великая - Иванов Валентин Дмитриевич (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
Но кто-то прятался под обломками, в подвалах, в закоулках, кто-то выживал случайно, кто-то старался выжить, кто-то обязан был выжить.
Нужно, непременно нужно кому-то выжить, чтобы вновь – в который-то раз! – отстроить древний Су-Чжоу, сколько-то раз разрушенный и столько же раз возведенный опять, – и лучше, чем предыдущий, – возведенный для нового разрушенья. Нужно, чтобы город восставал вновь и вновь, чтобы вновь и вновь решался неразрешимый вопрос: кто лучше, что нужнее? Выжить, притаившись, как мышь, либо погибнуть героем? Чтобы маленький человек – для смерти нет больших – совсем один выбирал либо одно, либо другое. Так как не было третьего, не было места, где удалось бы переждать, ничего не решая. Ибо и тот, кто, возмущаясь общей слепотой или пользуясь властью, заранее приготовил себе надежную щель с такими запасами, с такими сводами и в столь совершенном секрете, что мог там отсидеться годами, разве такой тоже не выбрал? Выбрал, выбрал и еще утешался: в роду любого героя всяко бывало, иначе не было б рода.
Окованный стенами от рождения, Су-Чжоу всегда давил собственные улицы, сужая их выступами, нависал этажами, теснил площади, превращая их в площадки, дворы – в дворики, чердаки – в жилища, подвалы – в склады. На заходе солнца убитый город вытеснил и завоевателей. Пожары возникали от очагов, брошенных хозяевами, от монгольской потехи: огонь довершит.
В сумерки пожар осветил буйство одних людей, пособничая им для гибели других. Описания совершавшегося тягостны, не нужны, не новы. И – не стары…
Великий хан решил завтра же начать отход в монгольскую степь, к подножиям монгольских гор, на тощие пастбища, на сумрачные зимовки, решил уйти в места, краше которых для монгола пока еще нет ничего на свете. Весной он легко подчинит себе всех монголов, не придется ему по необходимости избавить своих же, требуя покорности. Нужно собрать всех. С теми, кто есть, рано покорять Поднебесную.
Не когда-либо раньше, но только сегодня Тенгиз понял, как поступать дальше. Поняв, решил. Решив, отбросил, не ловя ни вчерашний день, ни истекшую минуту. Иначе не было бы Тенгиза, сына Гутлука, ни других таких же.
Мы измеряем события собою – другой меры нет – и настойчиво снабжаем людей действия задолго обдуманными решениями, сознательно преодоленными препятствиями, говорим об исторических рубежах и считаем ступени. Если действительность нуждается во лжи, как свет нуждается в тени, чтобы проявить себя и стать видимым, то поиски средств и старания искателей средств не должны вызывать ни восторга, ни осуждения, как любая неизбежность.
Невиданный костер размером в целый город освещал разгульный лагерь монголов. Впервые за время похода всякий порядок был нарушен. Стоянка войска едва ли охранялась. Да и что могло угрожать?! И в двух неделях перехода от пылающего Су-Чжоу не было иных сил, кроме монгольской.
Владея настоящим, определив будущее, великий хан наслаждался особенными блюдами и напитками. Бывший правитель Су-Чжоу с помощью других сунов услужал новому владыке; монголам не было дела до того, откуда добыты припасы, в какие городские склады сумели проникнуть хитрые суны, не изжарившись сами.
Как всякий монгол, Тенгиз мог подолгу обходиться без пищи и мог после долгого перерыва безнаказанно съесть неправдоподобно много. Не спеша вчетвером или втроем, орудуя одними ножами, монголы незаметно оставляли от целого барана кучку обглоданных костей. Еще и сейчас в местах стоянок кочевников на берегах озер земля набита сплошными слоями костей.
Шелковые пологи ханского шатра были приподняты, как кошмы летней юрты. Ночь стояла безветренная. Масляные лампы светили без помехи. Совсем рядом, в полутора тысячах шагов, догорал Су-Чжоу, делая еще великолепней тихую ночь конца лета игрой многоцветных языков пламени, догорал – не мог догореть. Еще и еще что-то рушилось, еще и еще в местах обвалов взлетали фонтаны искр.
Устав, пламя упадало, зарываясь в развалинах, и вдруг вздымалось. Может быть, масло, закипев в подвале от жары, превращало подземное хранилище в лампу, достойную духов зла, может быть, пожар находил склад драгоценного лака, дощечки дорогого дерева для шкатулок и ящичков, которыми славилась Поднебесная…
Восхищаясь особенно мощным факелом, Тенгиз встал, указывая пальцем. Он не хохотал грубо, отрывисто, как утром, потешаясь неловкостью своего суна Фынь Маня. Сейчас он залился смехом, как ребенок, и стал совсем молодым. Совсем по-юному он хотел, чтобы все глядели, радуясь с ним, совсем как юноша приказывал радоваться. Не к чему и некому было допытываться, попросту забавляется ли великий хан доселе невиданным зрелищем либо, казня непокорство Су-Чжоу примерной огненной казнью, тешится местью. Вернее было бы первое. Жизнь прекрасна удачей, а месть утоленная превращается в радость.
Разгорячившись, Тенгиз сбросил тяжелый кафтан, рубаху, сапоги, штаны и стоял, наслаждаясь прохладой, блестя потной кожей, как начищенная медь, с раздутым животом, но бодрый, крепкий, как бронзовый. Суны, почтительно подползя к хану, предложили халат желтого шелка, расшитый изображениями черных драконов. Тенгиз, приняв услугу, приказал подать сапоги: босой монгол – не монгол.
Ханские братья, подражая старшему, тоже разделись догола, избавились от излишнего тысячники и сотники, и все, очень похожие один на другого крепкой статью смуглых тел, стояли, требуя халатов и себе. Суны, роясь в грудах мягкой добычи, поспевали за всеми желаниями: умный, быстрый слуга становится господином своего господина.
Размахивая руками, наступая в блюда, расставленные повсюду, но крепко держась на ногах, великий хан выбрался наружу. Уселся свободно, как дитя или как зверь, которому нет дела до чьих-либо глаз.
Тем временем два-три монгола, достав свои костяные дудки, встретили возвращение хана пронзительной мелодией пастушеской песни. Откинув голову, Тенгиз запел, как поет монгол в степи, в прекрасной пустыне, научившись у ветра да у волка. Другие вступили, каждый старался взять выше и тоньше. Суны, сидя на пятках, слушали – мотив был понятен. Робко они вошли в хор господ. И скоро, распялив рты в широких улыбках, дали своим голосам полную волю.
Все отдались песне, а песня взяла каждого и подняла его в нечто более высокое, чем будни, на время в шатре Тенгиза сравняла монгола с суном. Они родственники, поэтому и растворялись в Поднебесной ее азиатские завоеватели.
Чужой не судья в песне другого народа. Но и чужой, кому доводилось слышать вой ветра и волчий вой с седла, либо на степной стоянке, или в камышах безлюдных озер, не отнесется с презрением к песне кочевника, хотя она и может быть ему неприятна.
Легко перейти границу между двумя народами, даже если эта граница – Океан, и дружески протянуть руку. Трапезу разделить труднее: каждый привык к своему, и любимое блюдо соседа бывает противно.
Но как быть с другими границами? Почему непроницаема стена искусства? Легко сказать – я не понимаю. Нет ничего опаснее непонятного.
Тускнел, будто уставая, огненный дракон – временный правитель Су-Чжоу. Утомив горло, монголы затихли и ленивее, а все же в охоту, принялись кормить отдохнувшие животы.
Ночь медлила, звезды стояли на месте. Хлопотливые суны возились с блюдами, с котлами, кувшинами, мисками. Наводя порядок, они расчистили место перед Тенгизом, расстелили ковер. Бывший правитель Чан Фэй вывел на ковер трех женщин, снял с них темные покрывала и, склонившись перед великим ханом, отступил, оставив женщин, как бабочек, покинувших пыльный кокон.
Этих пленниц Тенгиз взял в Туен-Хуанге и, ни разу не вспомнив, таскал за собой. Чан Фэй опознал храмовых танцовщиц. Случайная несвоевременная прихоть – они покинули свое жилище в Тысяче Пещер для какой-то покупки – отдала их в руки монголов.
Чан Фэй разыскал в мешках с добычей подходящие драгоценности, сам убирал танцовщиц и подбодрил несчастных, запуганных женщин шариками из смеси макового сока с соком индийской конопли. Бывший правитель изредка пользовался этим сильным средством. Напрасно Чан Фэй рассчитывал если не на благодарность, то хотя бы на удивление великого хана. Тенгиз принял бы как должное покорность самого Сына Неба и в эту разгульную ночь, и завтра, на поле сраженья.