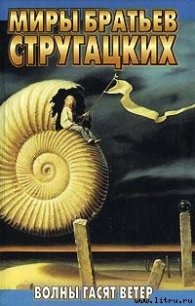Калигула или После нас хоть потоп - Томан Йозеф (лучшие книги читать онлайн .txt) 📗
Очевидно, каждый из этих снобов, которым я бросаю в лицо свои обвинения, думает, что его-то как раз все это не касается. Они. очевидно, думают, что я, человек болезненный, завидую здоровым и их разгулу.
Но как бы то ни было, я люблю добродетель. Добродетель азиатов покоится на преклонении перед грозными богами; греческая мудрость основывалась на законах природы и свободной воле; древнеримские добродетели определялись простой, исполненной труда жизнью. А добродетель нынешнего Рима? Она стоит на пустом месте, ибо ее нет.
И все же! Я должен поведать тебе странную историю. мой Ульпий. Впервые в жизни я проиграл судебное дело. Благодаря стечению обстоятельств, о которых речь шла в начале моего письма, а также потому, что Рим – это воплощение бездушной силы. Я не только проиграл дело, я проиграл собственную жизнь. Но при этом я видел настоящего римлянина. Представь, мой милый, настоящего римлянина, который говорил то, что думал, хотя знал, чего это может ему стоить. "Слишком дорогой ценой заплатил ты за это, Сенека", – скажешь ты. Да, действительно, слишком дорогой. Но зато теперь я спокойно могу отойти в царство мертвых. Этот римлянин был, нет, пока еще есть (как есть пока и я, для нас обоих жизнь еще не кончилась), актер Фабий Скавр, бывший раб.
И я, проповедник высших привилегий человеческого духа, я, сторонник глубочайшего уважения к честности и образованности, я понял, что великий дух может одинаково обитать в теле патриция, волноотпущенника и раба. Ибо что есть патриций, вольноотпущенник, раб? Это только названия, порожденные честолюбием или несправедливостью. Разве я не утверждал всегда, что люди по природе своей равны?
Итак, единственный истинный римлянин, которого я знаю в Риме, кроме тебя, – бывший раб. Я замер, поняв это, и сказал себе: неужели со смертью этого человека пресекутся добродетели римские? Или рядом с нашим миром существует иной мир? Может быть, там, за Тибром, где ни разу не остановился наш высокомерный взгляд, и живет римский народ? Народ жизнеспособный, более здоровый, более чистый, сыны которого подобны Фабию Скавру, а не Луцию Куриону? Я понял, что там источник той упорной, несокрушимой, бунтарской силы, которая ежедневно покрывает римские стены надписями, позорящими изверга, которому сенаторы готовы покорно и молча лизать пятки. И может быть, именно благодаря этой силе Рим будет вечен?
Может быть, именно там, за Тибром, среди плебеев возродится великий дух Рима? Трудно поверить в это. Но трудно и отвергнуть эту мысль, если в маленьком зернышке, имя которому Фабий, содержится хоть капля надежды на то, что мир станет более человечным. Когда-то я говорил об этом с Тиберием. Он верил, что наш мир не единственный. Тогда он оказался прозорливее, чем я. Но теперь я вижу это более явственно и верю в это.
В последний день нельзя в чем-то солгать или что-то скрыть. И я признаюсь тебе, что первым импульсом, заставившим меня принять сторону Фабия, был эгоизм. Я боялся, что будущее, если я не присоединюсь к этому благородному римлянину, осудит меня и вместе со всеми прочими выкинет на огромную свалку, имя которой – величественный Рим. А этого я все-таки не заслужил. Я старался честно, пусть и безуспешно, хоть на малую долю приблизиться к добродетелям и добру.
Я дарю тебе, дорогой Ульпий, как память о себе, несколько свитков, где записаны некоторые мои мысли. Я верю, что, если есть в них хоть капля ценного, они не пропадут и не погибнут. Я верю, что ты передашь их тому, кому они послужат на пользу, кто завещает мои мысли своему сыну и, таким образом, сквозь века протянется ниточка от нашего времени к будущему. И эта вера скрашивает мои последние минуты.
Скверный образ: последние минуты, не правда ли, мой дорогой? Мне всего лишь сорок два года. Пусть я болен, но я хотел и мог продолжать работу, которую так люблю. Тоска сжимает сердце. Признаюсь, страх смерти одолевает меня. но я должен быть верен своим идеям и превозмогу его. Я так мечтал о будущем! Наш величественный Рим не думает о нем. Он живет лишь минутой, а не будущим. Так рассуди, мой дорогой, имеет ли право на будущее нация, которая не заботится о нем?
Империя подобна своему правителю. Как некоторые ненавидят жестоких рабовладельцев и презирают их, так и несправедливость владык презрения достойна, и ненависть к ним будет жить в веках. Римский мир начинает медленно разрушаться, он неуклонно сползает к краю пропасти. Когда он в нее свалится, нельзя предсказать, но это произойдет.
Я вижу будущее, как видят его те, кто стоит на пороге бытия и вечности.
Я вижу иноплеменные толпы, которые через века вступят на улицы Вечного города. Что найдут они? На левом берегу Тибра – великолепные мраморные колонны, пышные храмы, разукрашенные золотом базилики и бронзовых богов, молчаливых свидетелей нашей эпохи.
Они онемеют от восторга и подумают: какими великими были люди, которые жили в такой гармонии, в таком великолепии!
О, как они ошибутся, если рассудят так, думая о нашем времени и посмотрев только на один берег реки? На другом берегу они найдут кучи мусора, потому что правый берег Тибра – это не золото и мрамор, но дерево и глина. В золотой жили луции, а там, в грязи, фабии. Ищи, мой Ульпий, человека, который написал бы правду обо всем этом, ибо я сделать этого уже не смогу.
Я кончаю воспоминанием о том. как посетил тебя: теперь, мой Ульпий, я с чистой совестью могу смотреть тебе в глаза. Я не трус. Я не опозорил своих предков. Лицом к лицу со зверем я защищал правду. Даже ценою жизни. А отдать жизнь за правду…
Ну, довольно гордыни, довольно слов. Я прощаюсь с тобой. Вечером я гулял по кипарисовой аллее. Теперь меня ждет аллея теней. И если теням дана память, имя твое, дорогой Ульпий. пробудет со мной вовеки, всегда ясное, всегда светлое".
Сенека написал письмо одним дыханием. Когда он отложил резец, у него горели щеки, голова пылала. Он встал, отдернул занавес, отделяющий дом от террасы.
Ночь, потревоженная криком просыпающихся птиц, отступала. Одна за другой гасли звезды.
Глава 58
Мамертинская тюрьма, выстроенная в центре Рима по соседству с великолепными храмами, – это каменная твердыня страха, потусторонний мир.
Под наземной ее частью имеется подземелье, уходящее глубоко в скалу. Оно очень древнее, очевидно, со времен галльского вторжения в Италию, а может быть, даже со времен царей. В холодных, пропитанных сыростью камерах вот уже несколько столетий палачи душат приговоренных к смерти или топором отсекают им головы, если они не успели умереть от голода. Здесь окончили свои дни нумидийский царь Югурта, вождь галльских племен Верцингеториг и главари заговора Катилины.
Промозглая камера Фабия в надземной части тюрьмы пропахла гнилью и плесенью. Царящая полутьма наводила ужас, давила на душу, глаза не могли привыкнуть ко тьме и устремлялись вверх: там, высоко в стене, было небольшое отверстие, величиной с кокосовый орех, огонек, недостижимый для заключенного, по которому отсчитывались часы отчаяния; свет проникал через него в зеленоватую черноту, скользил по камням, отмерял время. А в камере, как на дне омута, стояла скользкая тишина.
Фабий слышал свое дыхание. Быстрое, прерывистое, свистящее. Казалось, что в темноте скрывается кто-то еще. Человек или зверь. Фабий выкрикнул имя Квирины, чтобы разорвать кольцо страха, и испугался собственного голоса: голос был тяжелым, как топор. Узник скорчился на влажной соломе и ждал. Ночь, день, ночь. Иногда время становится страшнее палача.
Плесень со стен заползла к нему в мысли. Искра надежды задыхалась во влажной плесени, отчаяние брало верх. Отверстие в стене разверзлось, стало головою Медузы, лучи света превратились в змей. Чудовище росло, приближалось, змеи шипели. Фабий цепенел от страха. Он ударял ногами в стену, бил кулаками по мокрым каменным плитам, кричал от отчаяния.
От усталости он свалился на гнилую солому. Холод пробирал его до костей. Он ждал. Чего, боги, чего?