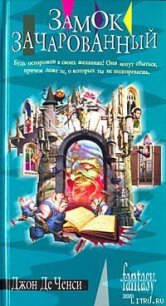Седая легенда - Короткевич Владимир Семенович (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
А Романа уже вывели — он и в самом деле был бледнее трупа, хотя шел твердо, — взвели на помост, на котором стоял мистр, а по-простому палач, в красной длинной рубахе. Так они и стояли, алый и белый: на Романе был саван.
И стали падать на толпу тяжелые слова:
— Меч его сломай, кат… Вот лемех от нив его — отдай его другому, кат.
И под конец взял палач щит и отсек топором его острый конец, а верхнее поле замазал дегтем и сажей.
Жены дворянские так заголосили при этом — затыкай уши: нету казни страшнее этой для дворянина.
А Ракутович поглядел на них длинными непонятными глазами и лишь усмехнулся:
— Ничего, зато щит теперь на ваши не похож, на чистенькие.
И сам сел, обнял плаху ногами, чтоб на колени не становиться.
Лицо ката, бородатое до самых глаз, потемнело. И руки дрожат.
— А ты смелее, — говорит ему Роман, и голос такой простой.
Палач поднял топор.
— Погоди, — говорит Роман, — дай в последний раз на пальцы поглядеть.
Согнул их несколько раз. И вдруг широко перекрестил народ. Крикнул:
— Ударить за тебя еще раз не могу, так прими хоть последнее мое благословение.
Поднялся плач, стон. А Роман положил уже руки на плаху:
— Руби.
Занеслась секира. И мы услышали только глухой удар.
Ж-жак!
Задрожал ветхий помост.
А Роман поднялся, стоит и руки вверх тянет. Правая рука выше кисти отсечена, левая — наискось, остались на узком обрезке мизинец и безымянный палец. То ли пожалел палач, то ли не рассчитал.
И тут лекарь из еврейского кагала засуетился — только желтая повязка мелькает. Помазал чем-то обрубки, и кровь свистать перестала. Чуть капает.
А Роман был так силен, что даже сознания не потерял и остался стоять на ногах.
Так и окончилось все это. Не получилось устрашения.
Теперь нужно было только судьбу «девки» решить. И приурочили это решение к тому дню, когда надлежало везти Романа в изгнание.
Накануне пани Любка добилась встречи с Ириной. Сопровождал ее и я. Спустились мы в подземелье у деревянных ворот, и опять я сквозь решетку увидел оленьи глаза да изломанные брови.
Любка рассказала ей обо всем. А та усмехнулась:
— Из-за меня… А я через худшее прошла бы, только бы он мою любовь увидел.
Ох какие это были глаза! Серые, лучистые, сияющие!
У пани Любки даже ярость на лице появилась.
— Загубила нобиля своим колдовством. В ссылке теперь будет. Отдай его другим. Сними чары.
— Нет, пани, этих чар не снимешь. А если даже могла бы — не сняла б. Он
— солнце мое. Разве что с сердцем только этот свет у меня отнять можно.
Любка встала, пошла к двери.
— Так не отдашь?
— Нет, пани. Загубила ты нам жизнь, а жаль мне тебя. Ради ребенка своего — не трави, не преследуй до конца Романа. А меня хоть и убей. Все равно я тебя жалею, ведь я сильнее.
На следующий день мы снова поехали к Замковой площади. Решалась судьба Ирины, а судьбу холопки без ее госпожи решать не положено.
И только мы успели проехать сквозь толпы народа, поднялся на улицах плач:
— Девонька, бедная!
— Не быть вам вместе!
— Не увидят его твои глазоньки.
От Сорока Мучеников ехала простая телега, и в нее только чуток соломки подброшено. А на телеге скованная Ирина в белом платье и казнатке из каразеи — белого сукна. Вырядили. Вчера же в рубище была.
Едет, глядит на людей сияющими глазами, великоватый рот улыбается. Рада, давно ведь не видела никого. Такая еще девчонка, тоненькая — двумя пальцами сломать можно.
А плач катится волнами:
— Ясонька ты наша, заступница. Прости тебе господь. А и ты нас прости.
И она кланяется и радостным голосом — все равно концу какому-то быть — говорит:
— Прости, люд православный, прости.
Остановили телегу возле узкого высокого дома — замкового суда. Ирину сняли с телеги, повели переходами вверх.
В зале длинный стол, кресла без спинок, смердит чернилами из кожаных чернильниц. И из окон так мало света, что зажжены три свечи. От одной струйка копоти тянется на низкий сводчатый потолок.
Больше ничего. Разве что тяжелая дверь в стене справа. В пыточную. За столом Друцкий, Деспот-Зенович да два писца. И еще советник из магистрата.
Госпожа села и сидит бледная, неподвижная, как идол. И веки сомкнуты. А на высокой прическе меховая шапочка с заморскими перьями.
Разбирательство было короткое. Исписали провинности, коих не оказалось, кроме влечения к мужицкому царю. Никаких оснований для подозрения, никаких совещаний с мятежниками. И никаких оснований предполагать злонамерение, разве что попытается увидеться с Романом.
Что делать?
У Друцкого еще плотнее сухая кожа щек к зубам прилипла.
— На дыбу повесить — не за что. Мучить зря ни к чему. Но и отпустить опасно… В замковое подземелье, на вечное заточение. Или лучше — огнем казнить. Приворожила бывшего нобиля.
— Почему? — спрашивает Деспот-Зенович.
— Тут не обошлось без колдовства, — желчно говорит Друцкий. — Не такую любовь всевышний в Кане Галилейской благословлял.
А Деспот улыбается:
— Любовь… А что ты в ней понимаешь? Она разная, любовь. Богом ли, чертом ли дана, а все равно лучше ее ничего нет. — И обращается к радцу: — А твоя мысль какая?
— Отпустить, — вздохнул тот, — отдать этому ироду. На Романе роду Ракутовичей предел. Нехорошо.
— Ясно, — говорит Деспот.
И тут вскочил князь Друцкий — заметалась тень по потолку.
— Отпустить? Отдать? А Кизгайла-мученик в чем перед смертью клялся? А одержимая давеча что пророчила? Хочешь смуты вечной, хочешь предела панству? Казнить ведьму!
Ирина стоит перед ним, глядит лучезарными глазами:
— Не любил ты, видно, князь. Свечной огарок у тебя вместо сердца. Какое же здесь волшебство? — И Деспоту: — Не чаровала я. Если и чаровала, так глазами, голосом, словом.
Пани Любка взглянула на нее и опустила глаза. А Деспот-Зенович долго глядит на подсудимую. Лицо у него здоровое, нескладное. А глаза умные, как у собаки.
— Ну скажи, пан, чем я его околдовала? Крест ведь на мне.
Тот улыбается грустно:
— Вижу, чем ты его околдовала. Вижу, дочка.
И глаза прикрыл. Я почти знал, о чем он думает. Знал, как он в Варшаве жил, когда был молод, в кого по глупости влюбился. И чем это кончилось.
Но он недолго думал. Заморгал вдруг ресницами и жестко так говорит Друцкому:
— Любовь не спрашивает, когда приходит. Может и Сатир [25] влюбиться в Геру [26]. Да и она его может пожелать. Молний не боясь.
— Тебе лучше знать, — язвительно говорит тот.
Но Деспот уже поднял веки.
— Твое слово какое, пани Любка?
— В Кистени Ракутовича нельзя сослать?
Деспот прищурил глаза. Глянул исподлобья на госпожу. И словно отрезал:
— Нет.
Любка подняла голову, внимательно посмотрела на Ирину. И выдохнула:
— Отдайте тогда ему… Что уж…
— А слова пророчицы? — взвился Друцкий.
— Все равно отдайте.
Друцкий фолиант на пол смахнул. Потом встал. Голова под самым потолком.
— Что же, отдайте, коли все на одного. Но вот вам и мой голос: чародейству в Могилеве не бывать, предела панству нашему — не быть. И потому пускай кат прежде ослепит ее.
— Ах, Друцкий, Друцкий, — покачал головой Деспот-Зенович.
И поглядел на Ирину:
— Видишь, девонька, во что уперлись. А ты как мыслишь?
Та вся так и подалась к нему:
— Пане милостивый, абы с ним.
— Подумай, — тихо говорит тот, — можем просто отпустить. Иди в свет. Мужиков-то много.
А у нее вдруг глаза стали светлее прежнего. Такие мягкие, серые, несказанные глаза.
— Пусть слепая. Нет света без него.
— Ну, смотри, — отвернулся Деспот. — Будь по-твоему… Иди.
Палач в дверях появился. И она пошла к нему, пошла, торопясь, легкой поступью. Будто плыла по воздуху. И все убыстряла, убыстряла шаг.
25
низшее лесное божество, получеловек-полукозел
26
Гера — верховная богиня у греков, супруга Зевса (у римлян соответственно Юнона, супруга Юпитера); богиня брака и супружеской любви, покровительница и помощница беременных и родильниц