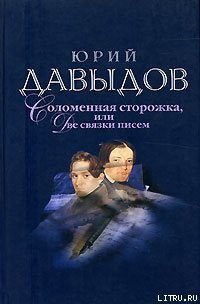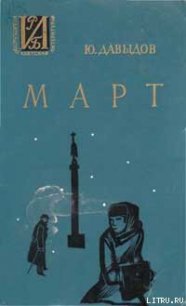Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (читать книги полностью без сокращений бесплатно TXT) 📗
Ах, только бы он не кричал так громко, чтобы чужие-то, чужие не слышали! Почему-то казалось, что теперь господин майор «свои», а весь ужас и вся погибель – в этих вот, в чужих.
– Единственно с целию, ваше высокобродь, – залепетал Ефимушка, – единственно подробнее вызнать и донесть, ваше высокобродь, богом клянусь. Да я… – Он глотнул воздух и с отчаянной внятностью проговорил: – Да я в секунд представлю. – И Ефимушка выпростал из-за пазухи несколько бумажных комочков. – Вот! Вот! Единственно с целию по начальству, ваше высокобродь! И еще там, в тюфяке, сам давно думал…
– Извольте полюбоваться, господа! – яростно вскрикнул Лесник.
Он рванул унтера за погон, погон затрещал. Смотритель выругался матерно, приказал взять «мерзавца».
Ефимушку увели. Он мелко, монашески перебирал ногами, мотая головой, сокрушался: «Единственно с целию… Богом клянусь…»
В тюрьме Трубецкого бастиона стражники мыкались в ожидании смены. Эти минуты перед сдачей караула – самые постылые. На дворе распогодилось, а ты знай ходи, как маятник, в «глазок» засматривай. А чего там, в каземате, интересного? Ну, арестант мухой ползает. Или на койке лежит, мечтает, стало быть, про вольную волю. Известно. Эх, кому служба – мать, а кому – мачеха. Ежели, скажем, в губернском управлении, то в городе обретаешься, господ разных, дамочек наблюдаешь, оно и весело. Или, допустим, на арестование отрядят. В ночь-заполночь нагрянешь, а он, голубчик, как подстреленный. Бывает, правда, и пальбу откроет. Тут уж не моргай, может, и намертво порешат, а может – медаль. Боязно, конечно, но опять не то, что здесь, в бастионе… И чего мешкают? Курант брякнул, а смены нет как нет.
Арестант номер шестьдесят два тоже мыкался в ожидании смены: «голубь» нынче прилетит. Очень гордился Златопольский выучкой «почтового голубя». Ожила тюрьма, словно рацион увеличили и прогулки. Дерзкий план вызволения Фигнер принял, судя по всему, практические очертания. Дегаев ввязался. Вера Николаевна радуется его побегу из одесского застенка. Вот тебе и «вываренная тряпка»… Не только письмом, еще и газеткой нет-нет да и побалует тюрьму добрый малый Провотворов. Невелика, правда, радость от нынешних газет. Редакторы, как Щедрин язвит, приговорены к пожизненному трепету… Однако что же это? Куранты отзвонили, пора. Гм… А денек-то выдался, солнце так и ломит. Спешить надо – белые ночи близко, и как бы, глядишь, Веру-то Николаевну в Алексеевский равелин не определили… Однако что за причина, отчего смены нет? Всегда минута в минуту, без задержки…
Послышался шум множества шагов. Идут! Дверь каземата распахнулась. Не Провотворов вошел, не унтер Ефимушка, не «голубь» – рыжий смотритель Лесник, стремительный, гневный, без шинели, в сюртуке с майорскими погонами. А за Лесником еще офицеры. Лесник к окну, другой чин – к ватерклозету.
И вот уж на ладони смотрителя – мелко исписанные листки папиросной бумаги. И вот уж у другого чина в брезгливо-мокрых пальцах огрызок карандаша.
Тугой сноп солнца бил в камеру. Но в камере темно – будто ослеп арестант номер шестьдесят два.
3
Инспектор Судейкин допросил унтера Провотворова. Сперва наорал, топая ногами и употребляя излюбленное – «мать твою рябиновую». Потом папироской угостил, поспрошал укоризненно. Провотворов тотчас признал в подполковнике «настоящего хозяина».
Георгий Порфирьевич убедился, что малый действовал «единственно» из корыстолюбия, и это было очень понятно инспектору, это его успокоило, снисходительно расположило к Ефимушке. Убедился Судейкин и в том, что малый в одиночку действовал, стало быть, никакого заговора и в помине не существовало.
Об этом инспектор теперь толково доложил директору департамента, сидя в его голом холодноватом кабинете. Кабинет казался совсем неприютным оттого, что в высокие окна смотрело майское солнце. И по той же причине замкнутое лицо Плеве казалось еще бледнее и еще строже.
– Наконец, Вячеслав Константинович (наедине они обходились без чинов), наконец, просьба деликатного свойства. Делом, очевидно, займется Антон Францевич. В интересах розыска необходимо настоятельно внушить Добржинскому, что у нас нет надобности до поры трогать Блинова. Да, да, из Горного института. Вы же знаете Добржинского: я-ста, мы-ста… – Судейкин, усмехаясь, развел руками.
– Я переговорю с ним, – сказал Плеве. – Антон Францевич страдает порой излишним рвением. Следствию будет предъявлен лишь Провотворов. С этим решено. Ну-с, а что же наш Яблонский?
– Непременно будет. Жаждет.
– Ну что ж… А он и впрямь заслуживает внимания.
– Согласен, но дозвольте заметить, внимания заслуживает…
Они обменялись понимающими взглядами.
– Я не забываю, Георгий Порфирьевич. Мне дали знать: после коронации. Согласитесь, сейчас не до того, чтобы государь вас принял.
– Не спорю, – Судейкин помрачнел. – И все ж… Может, именно до коронации?
Плеве взглянул на него пристально. Они молчали. Потом директор сказал мягко:
– Вы знаете мою искренность к вам, но я лишь директор, и мои возможности… А он – увы!
Имя министра не было произнесено. Судейкин вздохнул с видом человека, несущего свой крест. Плеве, опустив веки, поискал в бумагах, хирургическим движением извлек глянцевитую тетрадочку, сшитую витым шнурком.
– Прочтите на досуге, Георгий Порфирьевич. Немало любопытного.
Судейкин, думая о своем, скользнул без интереса по рукописному заглавию: «Обозрение полицейских учреждений городов Парижа, Берлина и Вены». Рассеянно полистал, сказал негромко:
– В Европе умеют замечать и награждать преданность.
Плеве снова опустил серые веки, потер, будто затачивая, длинный палец о сукно письменного стола. Высочайший указ о его, Плеве, производстве в тайные советники уже заготовлен. И не по выслуге, а за отличие. Да, заготовлен, но не подписан. Это после коронации.
– Я убежден, – значительно сказал директор, честно глядя на Судейкина, – я совершенно убежден, что и наше правительство умеет замечать и награждать преданность.
– Дорого яичко ко Христову дню.
Настойчивость Судейкина слегка утомила директора.
– Москва, – сказал Плеве. – Как много в этом звуке… Не так ли?
Судейкин помедлил. И опять вздохнул с видом человека, несущего свой крест.
Они заговорили о Москве.
И верно, многое, слишком, пожалуй, многое слилось теперь в «этом звуке». Предстояла коронация. Великое всенародное торжество устрашало. Неизбежность появления гатчинского затворника при стечении огромных толп; сотни тысяч – и государь на виду. Это неизбежно. Он проедет по улицам, запруженным людьми. Мимо домов с бессчетными окнами, откуда можно стрелять. Мимо чердаков и крыш, откуда могут швырнуть бомбы.
В недавнем докладе министерства внутренних дел государю императору сказано: «По агентурным сведениям, партия террористов произведенными за последнее время арестами деморализована».
Но вот анонимка, черные чернила, печатные буквы: «Царя и всю его семью взорвут на воздух в Москве, на коронации, на Тверской улице, три большие мины, погибнет и войско и народ».
В недавнем докладе государю сказано: «Под влиянием арестов, произведенных среди офицеров на юге, в партии террористов существует предположение, что в ее организации находится важный правительственный агент, который не допустит достижения преступной цели».
А перехваченное письмо? Письмо, адресованное неизвестным в Женеву? Чеканно и непреложно: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Предгрозовым шелестом пошло в Санкт-Петербурге: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Эхом вторили генерал-адъютанты и сенаторы, действительные статские и действительные тайные. Никто из них не хотел, не желал цареубийства. Но с каким-то судорожным придыханием: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Тут жажда необычайного, ужасного, холопье злорадство.
Из Швейцарии сообщали шифром: Плеханов едет, с американским паспортом едет Плеханов, возглавит шайку для убийства императора. И Гартман едет, известный «Сухоруков», взорвавший в семьдесят девятом поезд с царской свитой.